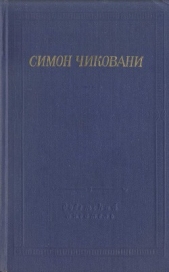От крика, от муки, от острых взглядов соседских,
от голосящего дыма, от тиши соседских халуп,
от голых досок стола, выскобленных до блеска,
где недавно лежал его приодетый труп,
от пения, ладана, властной латыни,
крахмальных брыжей священника, сурового старика,
от толчеи, когда в покрашенной домовине
виднелся обшлаг его синего вельветового пиджака,
от себя, от двора, от дома,
от боли, от бездны, от тьмы
без слова, без слез, без препоны,
без пастырей и родни,
чтоб — я и бог, только мы одни,
только мы одни, одни мы.
Над памятью и над светом, над горем и над людьми,
непокорная их заветам, неподвластная их тревогам,
со злой сухою слезой, как пред запертыми дверьми,
стою перед ним, немым, зазря замученным богом.
Нет, не дойдешь до него по ровным ступеням храма,
по доскам глухого гроба,
по наставлениям падре. [89]
Лезь сквозь неведенье,
тьму —
люто, босо, упрямо,—
лезь сквозь горе, жажду и злобу,
лезь, раздирая нутро, лезь, выдирая патлы,
поднимись и пади,
подкрадись и пади,
пресмыкаясь, ползком перемеряй простор,
до вершины горы доползи, добреди,
где обгрызенный крест грубо руки простер.
К тебе ползу я, мой боже,
за правдой и местью ползу,—
неужто ты глянуть не можешь
на черное горе внизу?
У райского стану порога,
тебе закричу в вышину,
кому расскажу, кроме бога,
безвинную нашу вину —
про голые жесткие доски,
убогую нашу постель?
Про роскошь имений баронских
на сто километров отсель?
Про дула его пистолетов,
нацеленных в нас, бедолаг,
когда он однажды летом
ввалился в батрацкий барак?
Про то, как мой муж за строптивца
с тех пор по округе прослыл?
Про то, как наемный убийца
в живот ему пулю пустил?
Я всё расскажу тебе, боже.
Всё. Всё. Всё.
Пусть землю, как брачное ложе,
ярость моя сотрясет
и перетряхнет, перенижет,
перевернет бытие.
Должно подняться и выжить
одно упорство мое…
Как утопленница, теченьем прибитая к пристани,
у столба, увитого тернием, возле рукастого
пала она и умолкла — раздета, расхристана,
молча лежала — не голосила, не плакала.
А вокруг нее — никого нет на тысячи, тысячи
верст, и годов, и дорог, и просторов, и пустошей,
только она, только крест, и бездонная высь еще,
и одиночество, и пустота стерегущая.
Так одиноко упала она на обочину,
страшно одна в глухоте, в пустоте, в унижении:
руки распятья давно древоточцем источены.
Руки погибли — страшно ее приближение.
Пусть будет так! Навеки этот мрак.
Навеки пустота. Навеки темнота
Тень креста.
Будет так.
Будет так, взметнется, грохнет громами, разыграется,
заревом разбушуется, маревом раскачается,
трепетом перенижется, всполохами и тенями,
ярым искристым гоном, словно гроза безмолвная,—
и я восстану тогда и пойду голубыми ступенями
вверх по райским полям, я, озаренная молнией.
Надо в гору идти, через силу в немом исступлении,
каждым нервом стремясь, рваться жилкою каждою,
а ступени круты, трудно стать на ступени мне,
вдруг уйдут из-под ног — я над пропастью страшною.
Я на месте топчусь, борюсь с тоскою смертельною,
я срываю одежду, поднимаюсь голая в замети,
и летят вокруг меня зори, люди, видения памяти,
и не глянет никто, и вослед мне никто не оглянется,
и не видит, не знает никто моего потрясения,
а дорога уходит назад, и всё тянется, тянется,
и уводит, уводит от памяти и от спасения.
От замерзших ступеней, от пальцев, закованных в лед,
до смятенного мозга, ошпаренного сновиденьем,
поднимается тьма, словно воды протухших болот,
и мой мир заполняет ползучим болотным растеньем.
Я бескрайно тону — ни зацепки, ни смерти, ни дна,
неизбывна, бездонна болотная глухомань,
и разверзается вышина,
кто-то молвит: «Женщина, встань!»
Кто ты, русобородый? Кто ты, ласковорукий?
Как ты ко мне явился? Ты не сошел ли с креста?
Дай обопрусь на тебя, вырвусь из смерти и муки.
Вот отходит усталость. Лопается глухота.
Кто ты? Просто ль свидетелем вдовьей доли злосчастной
или несказанным чудом встал на моем пути?
Так по-мужски неловко, так необычно властно,
так по-старинному просто: «Женщина, встань и иди!»
Встану, пойду. Забуду сирость серых тропинок,
кручи голгоф, по которым лезут те, кто бессилен.
Встану. Взгляну на тебя. Латаные ботинки,
крытые красно-рыжей пылью серных плавилен.
Синий пиджак из вельвета, схожий с мужниной курткой,
а на ладонях мозоли от обушка и лопаты.
Верю тебе, человек, светлый, сильный и кроткий,
ты услыхал молитву, ты, а не тот, распятый.
Верю, пойду. За мною только кресты и могилы:
гневно кричат могилы, страшно молчат кресты.
Дай же мне, человек, часть от твоей силы,
чтобы я встать сумела и за тобой пойти.
Встану, пойду, увижу, как ты идешь полями,
как ты приходишь в город, на площадях встаешь,
как говоришь с людьми невыдуманными словами,
чтоб причаститься к правде, чтобы узнать, где ложь,
чтоб нераспластанным чревом, прячась, ползти тропою,
чтоб с тобою вместе быть близ людского жилья,
чтобы пустую похлебку мы поделили с тобою,
чтоб твои ноги омыла я из лесного ручья.
Будут тебя тащить в их грязные трибуналы,
будут лгать, и бесчестить, и возводить брехню,
будут стрелять в тебя, как в моего стреляли,—
выбегу перед тобою, телом от пуль заслоню.
Видишь — я встала. Видишь — горы у наших ног.
Вот лежат перед нами крестовины дорог.
То не твое распятье. Кто ты? Кому родня?
Слышишь, кампаньо! [90] Из праха ты подними меня.
Дай о плечо опереться, вновь я стану тверда —
может, и впрямь, кампаньо, ты спустился с креста?
Может, под мятым беретом, сдвинутым вправо, вбок,
видно, где след терновый смуглый твой лоб рассек?
Вот ты идешь сквозь чащи островом бедных людей,
старыми башмаками топчешь глину полей,
рыжую пыль плавилен, серую пыль нужды.
Боже, как пересохла наша земля от беды!
В треснувший камень Этны вбиты твои следы —
выведи нас из пустыни и к живым приведи.
Цепкие травы Сицилии тебе помешают идти,
дикие острые тернии будут стоять на пути,
схватит шиповник за руки, веткой ударит лох,—
пылью и потом покрытый, рядом идешь ты — бог!
1966
Перевод Д. Самойлова