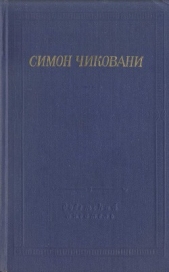…То псы сипят,
а может,
я рычу?
Или трещат
пожарища от жара?
То волком воет кто-то.
Трепещу.
Мертвецы.
Пожары.
Чем проигрыш свой нынче оплачу?
Безумством или смертью? Не хочу!
Или бесчестием
и прямотою кары?..
Вбежать бы в смерть,
нырнуть бы под удары!
Нет.
Не вбегу.
Ползу. Держусь. Молчу.
Гляжу.
Мой край.
Родимое подворье.
Гараж. Кирпич багровый. Погреб-гроб.
Развал. Разор. Для воронов раздолье.
И это мой очаг?
Мой мир и бог?
Низвергся он.
Его насквозь пронзил металл.
Минуты бьют, как пули автомата,
секут часы,
и время — наповал,
и тащат разум в омут бесноватый,
в глубь безнадежности проклятой,
в разбитой памяти провал.
Уже разрывы схлынули, как шквал,
но отзвуки стального переката
еще крошат кирпич,
трясут подвал,
терзают липы ствол горбатый,
где в назиданье
в петле из шпагата —
повешенный жандармами капрал.
Я вижу приговор и час расплаты,
и свой беззвучный крик,
что горло мне сковал,
и землю прадедов, задымленну, разъяту,
и пулю, что ввинтилась в лоб солдату,—
он пал возле ворот,
убитый пулей пал.
То был мой сын.
Он выбежал без страха
навстречу им с гранатой.
Он не трус.
Он пал. Мундир. Ременный пояс. Бляха
с готическою вязью:
«Gott mit uns». [88]
Он с нами, бог?
Тут, в духоте смертельной,
тут, в трупном гное,
в гибельном бою,
где кровь на лоб
плеснул свинец прицельный?
Я жду. Я озираюсь. Я стою.
Здесь, в безнадежности огромной,
беспредельной,
хочу надежду отыскать свою.
Но все надежды сдохли и смердят,
как псы, которым разнесло хребет,
им места нет в руинах и смертях
среди тупого скрежета ракет.
А мы под ними бегали и падали,
ревели в страхе,
никли от тревог,
врастали в ямы,
ползали по падали,
и с нами был поверженный наш бог.
Он с нами был.
Глядите, он ползет,
измазанный в крови, в грязи, в стыду,
бормочет что-то,
сам себя грызет,
себя терзает за свою беду.
Вот он, наш бог,
наш белокурый бог,
он издревле хранил немецкий мир.
Упрятался он,
убежал иль сдох?
И кто он — зверь,
упырь
иль дезертир?
Я жду.
Я озираюсь.
Я стою
в моем разбитом дедовском раю
над бездною
над черною,
над серою,
над трупом сына,
над своим концом.
Что я увижу?
И во что уверую,
к живым сердцам оборотясь лицом?
Нет никого.
Никто нейдет, спеша,
чтоб слово молвить.
И никто не глянет.
Не даст мне хлеба ни одна душа,
не облегчит
и руку не протянет.
Вот вам ладони,
заскорузлы, рыжи.
В них были заступ, и топор, и штык,
бутыль вина из самого Парижа,
и киевлянкой вышитый рушник,
и кнут, и Библия, и пара незабудок,
и маргаритки, и трехцветный флаг,
и малый сын, и груди проституток,
и свастики змееподобный знак.
Теперь они висят,
как высохшие плети
или мешки, что смяты и пусты.
Всё позади.
Нет ничего на свете
среди пожарища и темноты.
Там где-то
взблески,
перекаты,
выстрелы —
там, за холмом, в соседних хуторах,
а здесь уж танкам больше не оттискивать
в пыли дорожной свой тяжелый трак.
Лежит дорога,
вздыблена и взорвана,
железным ломом тяжело завалена,
и клубы дыма вьются, словно вороны,
и в хуторе таращатся развалины,
и тянет чадом над домами черными,
и смерть молчит.
Ни отзвука.
Ни отклика.
Лишь мертвецы зеницами упорными
уставились в обшарпанное облако.
Я вижу это.
В обреченность вслушиваюсь.
Железо лязгнет.
Отзовется осыпь.
Куст заскрежещет,
обожжен «катюшею».
И что-то там стучит, как чей-то посох.
«Так-так».
Неспешно.
Муторно.
«Так-так».
Неровно. Шелестя. И по асфальту шоркая.
Растянутый, как спазм, неровный такт.
Идет, не видно кто,
Там человек.
Я слышу каждый шаг.
И движется шагами неустанными,
подошвами шурует деревянными
он минами истерзанный большак.
Кто он такой?
Гадаю. Беглый? Пленный?
Безумец? Вор? Грабитель? Дезертир?
И чем гоним он сквозь ужасный мир?
Злодейством? Лютостью? Безумием?
Изменой?
Он появляется из-за бугра.
Так смерть
в последний день Земли
пройдет по скатам.
Одежда смертников наброшена на жердь —
таков и он в отребье полосатом.
Хламида скомороха — куртка рваная —
почти сползает с острого плеча.
И грохает подошва деревянная,
когда идет он, ноги волоча.
Я узнаю.
Я знаю,
он откуда,
полубезумец и полумертвец,
и на каких крестах, не чая чуда,
он ждал, чтобы скорей пришел конец.
Бараки, белены, как гробы чумных.
И проволока — прямо под обстрел.
И дым — как шкуры, содранные с тел.
За проволокой — трепет рук безумных.
Мы видели те руки.
И дымы.
«…Я добреду. Дойду. Пускай не сразу.
Страшнейшее прошел,
а хуже не бывать.
Ни стали, ни огню, ни холоду, ни газу,
хоть пыткою, хоть чем —
меня не взять.
Меня пытали ледяной водой, морозом,
кололи шприцем, лезвием, штыком,
травили хлором, мучили гипнозом,
секли кнутом, топтали сапогом.
И я,
и сотни,
тысячи,
мильоны —
мы серым пеплом делались в печи
иль трупом, скрюченным в зеленой мгле
„циклона“,
нас в мясо пыткой превращали палачи.
Меня клеймили, чтоб не стерся след,
рубили голову, терзали полной мерою,
в один удар ломали мне хребет
за то, что знаю,
и за то, что верую,
за то, что звал я свой народ своим,
что меж людьми я жил по-человечески,
и трупом я не стал,
и я не тлен, не дым,
не стал я прахом, и не стал я нечистью.
И я не призрак,
вставший из могил,
не пепел и не символ преступления —
о нет, твоей я смерти искупление,
завет, что ты когда-то преступил.
Сквозь бурю зла,
невиданную прежде,
сквозь выстрелы,
сквозь весь разгул беды
не ты мне —
я тебе принес глоток воды,
глоток воды —
один глоток надежды…»