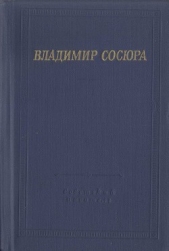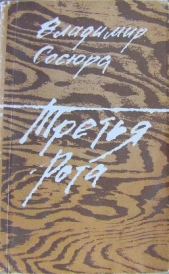Горелым пахнет даль. Поволжье в дни и ночи
протягивает к нам худые руки сел…
Из зарубежных стран пришел бы хлеб рабочих,
но не позволит им Европы произвол.
Как золото зубов — так кованы кордоны…
Когда ж восстаний жар растопит их навек
и в бриллиантах звезд наступит на короны,
как ветер, как огонь, свободный человек?
А листья шелестят на мокрых тротуарах…
И хочется стрелять и плакать без конца…
Нет, нет, недаром нам гудела даль в пожарах,
недаром мы царя смели грозой свинца!
И всё как будто сон… Голодный фронт… Оксана…
В седую даль идут-уходят поезда…
О ветер милый мой, товарищ мой чуть пьяный,
ведь не забудем мы с тобою звон труда!..
Один лишь только труд избавит нас от горя,
а власть из наших рук врагам не вырвать, нет.
Поволжью мы дадим зерна в достатке скоро,
рабочая рука избавит нас от бед.
В последний раз шумит буржуй в своем квартале,
и гобеленов мир живет последний день…
Ведь трубы и гудки давно уж отрыдали,
и обагрила кровь последнюю ступень…
Оксана поняла: чтоб лучше знать работу,
наука ей нужна, учиться нужно ей.
Заехала она в родную Третью Роту,
увидела село, и нивы, и людей.
Оставив женотдел, попала в губпартшколу,
в тот город, где звездой цветет для нас Артем.
Навеки слава тем, кто из босых и голых
в грядущее идет с мечтой одним путем!..
До Харькова ведет железная дорога,
и поезда бегут — попробуй сосчитай.
И светит лунный серп — мой друг золоторогий —
сквозь марево веков на мой вишневый край…
1922
«А чтоб чума вас покосила,
пускай бы вы подохли все!» —
кричит, бежит пастух Трясило
по перламутровой росе.
Он и ободранный, убогий,
он и разгневанный такой.
Ему стерня не колет ноги
с их пяткой черной и тугой.
Разбитые колени ноют,
и кровь в виски натужно бьет…
С Мариною, его сестрою,
в селе отец седой живет.
И что там деется с Мариной?
Но думать некогда о том,
когда болтается холстинный
мешок с харчами за плечом.
Марина где-то тенью жалкой,
там, где орел степной парит.
В руке — замашистая палка,
в мешке — лишь лук да сухари.
Бежит с проклятьями и смехом.
Лохмотья, пыльных трав рядно —
вот это вся его утеха,
его имущество одно.
Шумят ему дубы и клены
и ясеня листвой блестят,
где гарцевал он исступленно,
под звездами любил девчат.
Там, далеко, где неба грани,
есть край счастливый, дорогой,—
а тут и голод, и стенанья
от свиста панских батогов.
И думы стаями — за грани,
где Хортицы мятежный гам,
где казаки в хмельном дерзанье
по вольным рыскают степям.
Как часто грезили с Иваном
они бежать к сечевикам!
От слов Тараса гнев багряно
горел в зеницах гайдука…
Себе героями казались,
бежав на Сечь в мечтах своих…
За сабли мысленно хватались,
но сабель не было у них.
Коптилки пламя скупо, вяло
дрожит, шатается, течет.
И Настя голову склоняла
Ивану тихо на плечо.
Ой, раздвигали стены думы
недавно, может, иль давно…
О, вечера в избе угрюмой
и песни, слезы за окном…
А дни и вялы, и нескоры,
не знаю, как бы их назвал…
Тарасу улыбались зори
и грезы ветер навевал…
Жизнь, разнолика и безгранна,
течет, волнуется кругом…
К нему во сне приходит панна
в уборе пышном, дорогом…
К ней сердце потянулось живо,
как нить, что вечно золота…
У ней — волос волниста грива,
свежи и радостны уста…
Под ноги словно розы стелет
и пьет глаза его до дна…
Она — не сон, она Ягелла
и дочь магната Рудзяна.
Объятья утро раскрывает,
светло туманится, цветет
над полем, над далеким гаем,
где свеж и молод небосвод.
Покорно собрались коровы,
хрустят зеленою травой.
Пастух меж них уселся снова
и сладко грезит, сам не свой…
Монисто звезд по небу вьется,
как будто думы чабана…
Ему не естся и не пьется,
мечта владеет им одна…
К себе зовет младую панну
и, жмурясь, ловит он ворон.
И перед образом туманным
застыл, коленопреклонен…
К нему всё ближе, ближе брови
и губы, губы с их огнем…
Ах, то не панна, то корова
его лизнула языком.
«Эгей! Куда? А, чтоб ты сдохла!..» —
и непечатные слова.
Трещит под ним подсолнух сохлый
и желто клонится трава.
Припомнил он: младая панна
его цветы не приняла,
и глаз мутит слеза, нежданна,
усмешка губы зло свела.
Она рабом его назвала,
ответила, как наглецу…
Взглянула гордо и сказала:
«Вот погоди, скажу отцу».