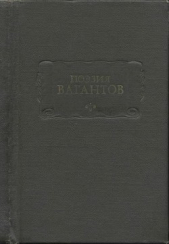И, к несчастью, растет
и растет на земле страданье —
пядь за пядью, растет повсюду,
поминутно, по часу в минуту,
и причина страданья — это страданье дважды,
и регламент оскаленный пытки — страданье дважды,
и траве вырастать травою —
страданье дважды,
и живому от радостей жизни — больнее вдвое…
Никогда, человечные люди,
никогда еще столько боли
не таили сердца, стаканы,
буквари, бумажники, бойни!
Никогда так не ранила нежность,
горизонт не стягивал туже!
Никогда огонь так умело
не рядился смертною стужей!
Да, Министр Охраны Здоровья!
Не бывало здоровье бренней,
и по капельке столько мозга
не высасывали мигрени!
И не билась, как в окнах муха,
и за стенками шкафа — мука,
и за стенками сердца — мука,
и за стенками нерва — мука!..
Братья люди, растет несчастье!
И растет само, без усилий.
Как морщины. Как res Руссо.
Как машины, скорей, стосильней.
По каким-то своим законам,
от причин бесконечно малых,
зло растет половодьем боли
с омутами в тугих туманах.
Лик земли искажен от боли,
и порядок вещей нарушен —
и уже вертикальны воды,
зримы очи и слышимы уши,
и родятся в них девять набатов
в час зарницы, и девять сарказмов
в час пшеницы, и девять визгов
в час рыданий, и девять свистов
и ударов — и нет лишь крика…
Боль охотится, братья люди, —
застигает нас полусонных,
распинает нас на экранах,
колесует нас в патефонах,
и снимает с креста в кровати,
и, отвесно упав, ложится
в наши письма —
и все это, братья,
слишком больно, можно взмолиться…
Ибо следствие боли — каждый,
кто родится, растет, умирает,
и кто, не родясь, умирает,
и кто от рожденья бессмертен,
и все те — с каждым часом их больше, —
у кого ни жизни, ни смерти.
И как следствие той же боли
я в печаль ушел с головою,
я до корня волос печален
и до кончика пальца вдвое,
лишь увижу распятый колос,
только гляну на хлеб чуть теплый,
на заплаканный ломтик лука,
на кровавые струпья свеклы,
и ни соль — словно серый пепел,
и на землю, где воды текучи,
где вино — господь-искупитель,
снег так бледен, а солнце — жгуче!
Как могу, человечные братья,
как могу я не крикнуть, рыдая,
что с меня уже хватит!.. Хватит
стольких болей и стольких далей,
хватит нервов, изнанок, стенок,
этих крох, этой жажды вечной, —
я не в силах, я сыт до отвала!
Что же делать, сеньор Министр?..
О, к несчастью, сыны человечьи,
сделать, братья, должны мы немало!
У гнева, дробящего старых на малых,
детей — на птиц в непогожий вечер
и птицу — на перья в потемках алых,
у гнева сирых —
один бальзам против двух увечий.
У гнева, дробящего ствол на ветки,
на почки дробящего ветвь оливы
и каждую почку — на клетки,
у гнева сирых —
одна река против двух разливов.
У гнева, дробящего свет на тени,
и тень — на луки с летучим жалом,
и лук — на кости захоронений,
у гнева сирых —
одна рука против двух кинжалов.
У гнева, дробящего душу на ткани,
и ткани тела — на рваные раны,
и раны тела — на клочья сознанья,
у гнева сирых —
один очаг против двух вулканов.
Я знаю настолько несчастных, что нет у них даже
и тела; взметенная пыль,
ничтожная — пядь от земли — прирожденная горесть
в пустой оболочке;
сплошное «не мучьте», идут к жерновам забытья,
и кажется — ветер их гонит, ожившие вздохи,
и слова их сливаются в четкое эхо кнута.
День за днем они лезут из кожи,
и скребут скорлупу саркофага, в котором родились,
ползут от секунды к секунде по собственной смерти
и падают навзничь,
рассыпав по кладбищам свой ледяной алфавит.
О как непосильно! И как это скудно! Бедняги…
О бедный мой угол, где слушаю их сквозь очки!
О бедная грудь, когда вижу, как мерят одежду!
О бедный мой светлый плевок в их совместной грязи!..
Да будут возлюблены глупые уши,
да будут возлюблены те, что присели,
случайный прохожий с безвестной подругой,
мой брат во плоти — с руками, глазами и шеей!
Да будут возлюблены
те, кого мучат клопы,
кто волочит по слякоти рваный ботинок,
кто с парою спичек не спит над останками хлеба,
кто дверьми прищемил себе палец,
и кто никогда не справлял дня рожденья,
и кто потерял свою тень на пожаре,
полускот и почти обезьяна
и почти человек по обличью, бедняга богач
и чистейшей воды горемыка, бедняга бедняк!
Да будут возлюблены те,
у которых — и жажда и голод,
но нету ни жажды унять этот голод,
ни голода нет утолить эту жажду!
Да будут возлюблены все,
кто измотан трудом в эту пору, сегодня, всегда,
кто вспотел от стыда или боли,
кто в угоду усталым рукам забредает в кино,
кто платит долгами,
кто во сне закрывает лицо,
кто не помнит уже свое детство; да будут возлюблены трижды
лысые без фуражек,
праведники без терний,
висельники без роз,
те, кто глядит на стрелки, а различает бога,
кто не утратил чести, а умереть не может!
Да будет возлюблен ребенок,
который, падая, плачет,
и взрослый, который упал — и уже не плачет!
О как непосильно! И как это скудно! Бедняги…