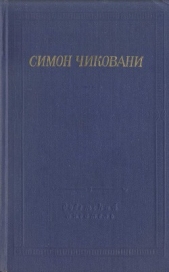Каспийская степь,
вся в прах сожжена и горбата.
Сады Карталинии
в цвете, в росе и соку.
Нерушимые, тяжкие озера Эйбата.
Перекрестные ветры Баку.
Этот ветер в знамена широкие Кирова
Врывался прибоем, шелка разметав,
В эту жесткую настороженность трав
Упрямо ступала нога командира.
Короткий он тут разбивал бивуак,
Расстилая пропахшую порохом бурку
На синий и рыхлый, как снег, солончак.
Товарищ и вождь,
командир и кунак
Менгрелу, лезгину, донбассовцу, тюрку.
Темнело. Приглушенный шаг патруля.
Бесшумные сумерки стлались над миром.
Он шел, поднимался на взгория Киров.
Текло омраченное море, гремя,
И яростным жаром чадила земля —
Князей нефтяных, властелинов, банкиров.
Он глянул на желтых вершин рубежи —
Он видит
от вышек Баку
и сквозь Кюрдамир
до Гянджи,
Там скопища глиняных сакль,
Овалов и кубов сцепленье:
то ящики сна и еды,
хранилища зла, угнетенья,
Рожают там в войлок, в кизяк
И мрут в лишаях от вши,
Там скрашен отчаяньем сыр,
замешаны болью коржи.
Он слышит рождение слов,
он видит прозренье конурок,
Годами закопанных в грязь,
веками не знавших про свет.
Он слышит, как молвит теперь
слова необычные тюрок
Гортанным своим языком:
«мандат», «большевик» и «совет».
Он издали видит
спирали ветров,
что идут круговертно,
Простреленного офицера
последний, отчаянный взмах.
Дашнацкого маузера в сакле
доносится выкрик предсмертный
И волчье шуршанье в кустах
мусаватистских папах.
Бои завершались над степью,
расколотой и пробитой,
Пронизанной визгами сверл
до жирных ее глубин,
Где в залежах олигоцена
ползет и сдвигается битум,
В расщелинах снятого грунта,
в разломах глубоких ложбин.
То кровь геологии.
Сало,
растопленное веками,
Засосанный в литосферу,
процеженный недрами жир.
«…A сверл не хватает и ныне,
ведь столько работ перед нами,
Так нет же — и нефть бюрократы
заносят в низший ранжир!»
То — посвист форсунок, то — натиск,
дыханье моторов, движенье
Энергии, влитой в глубины,
идущей на помощь труду.
«Еще и еще услыхать бы
струи говорливой биенье,
В цистерны швырнуть с размаху
живую ее быстроту».
Упрямо расправились плечи,
спружинили мускулы сразу,
Ремень затянувши на сумке
с привычным походным добром —
Блокнот для отрывистых формул,
нужнейших заметок, приказов,—
Он четок, как штрих астронома,
и точен, как метроном;
Вчетверо сложенный номер
майской «Правды» белеет —
С воззванием к закавказцам,
с ленинским мудрым письмом.
О пенсильванской нефти
обтрепанный том Менделеева,
И верный участник досуга —
Некрасова избранный том.
Мужская обычная ноша
с амуницией боевою…
Бойца, командира припасы —
спутники всех передряг.
Маленький смуглый подчасок
ноги поджал под собою,
Сторожевой с наганом,
сунутым прямо за пояс,
С продымленным карабином
над гребнем английских касок,
Оттягивает шаровары
синеватой бомбы кулак.
Тишь напряглась. А вечер
расцвечен, как украшенья,
Что в древних пергаментных списках
сокровищем вправлены в вязь.
Иранских писцов гололобых
химера воображенья
Вбирала многообразье,
стоцветным узором вилась.
В сияющих медных воротах,
тугой синеве наслоений,
В пролет колоннады отвесной
багрянца замедленный взмах.
Мозаика яшмы, порфира
вплавлена в блеск светотени,—
Как Шемахинское царство,
солнце сходило в мрак.
Былая земля Ирана,
пласты вековечных аулов,
Где прадед, и внук, и праправнук
сдыхал на проклятых полях,
Где раб-переписчик над текстом
склонялся спиною сутулой,—
Уже Шемахинское царство
над нею падало в мрак.
Былая земля кумирень
огнепоклонника гебра,
Христа, Магомета, Ормузда —
не выйти из круга никак —
И бой, и резня, и убийство,
петля и железо под ребра —
Бесчинство Шахсея-Вахсея
кровавое шло во мрак.
Былая земля губернаторств,
и негоциантов, и беков,
Где тысячи рук поднимались,
где громом звучало в ушах,
Как в лад забастовке бакинской
вздымалось путиловцев эхо,—
Дебелое царское солнце
над нею падало в мрак.
Былая земля магнатов,
что сверлами всех калибров
Пробита насквозь, чтобы нефтью
насытился мир и пропах;
Чтоб Кокарев, Нобель, Шибаев
на бирже победу вырвал —
Над нею Шибаево солнце
бесславно падало в мрак.
Былая земля «Мусавата»
взята детердинговским чеком,
Замасленным нефтью чеком
продажных и жадных бродяг.
Исхлестанная, рассеченная
сухим интервентским стеком,
Как ханский бунчукодержец,
солнце падало в мрак.
«Навеки!» — промолвил Киров.
Внезапно явилась гордость —
И он утвердил эту землю,
ее укрепил рубежи.
И крикнуть хотелось навстречу
крутому кипенью нордов:
«Эх, черт побери, по правде,
так хочется жить и жить!»
И он, расстегнувши ворот
выцветшей гимнастерки.
Вслушивался, как пульсом
по телу волна текла,
Ритмичным движением мысли
и щедро отпущенным током
Веселой и верной крови,
мужества и тепла.
В коричневых, ржавых навалах
катились просторов периоды
И разбивались у ног,
разбрызгавши щебень и шум.
В песках закружили ветры,
в шипучих разводах и выводах,
Как ящерица — пески,
невзрачный, как змейка, самум.
Меж горами эхо росло,
и звуки шли между склонами.
О чем-то кричал часовой
над вбитым в оковы селом.
И рядом, почти что о дол,
о грунт, как сухарь надломленный,
Внезапная птица легла,
царапая землю крылом.
Всходила каспийская ночь,
насыщена серным раствором.
Продымлена злым углеродом,
вспышкой нефти обагрена.
Путем этим, сотнями орд,
разбитым, искромсанным мором,
Прошли Тамерлан и сельджук,
фельдфебель и аргонавт.
Плавучий, обугленный ил,
огня подземного гул.
Вкованный в конус горы,
как в золото шлем, колчедан.
Равномерно качанье холмов…
Волнистой земли караван.
За горою гора и гора,
за аулом аул и аул…
«…Я слышу, как ты встаешь,
земля моя ста языков,
Я слышу, как ты идешь.
Я слышу, приходишь ты.
Для моря твоих людей
не хватает уже берегов,
Для роста твоих людей
мало уже высоты.
Идет отовсюду народ,
из всех городов и сел,
И подписи ста городов
под рубрикой „делегат“.
Пришел Зангезур и Баку,
Карабах и Тифлис пришел.
И возле московских бойцов
стоит торжественный тат.
Астраханский матрос и лезгин
читают одно и то ж
Алфавитом разных рас,
у одной и той же стены.
Я слышу, как ты встаешь,
я слышу, как ты идешь,
Как люди твои растут —
пулеметчики и чабаны.
Пыль менгрельских дорог
стряхивая с подошв,
Расспрашивает грузин
донбассовца про Перекоп.
Я слышу, как ты идешь,
я слышу, как ты растешь,
Твое поколенье встает —
архитектор и рудокоп.
Армянских пословиц текст,
что на родной похож,
Читает усатый тюрк
на языке азери.
Я слышу, как ты растешь,
я слышу, как ты встаешь,
Как люди твои идут —
виноградари и косари.
Идут в наилучший дом,
какой только в городе есть
Средь ржавых особняков,
купцами построенных здесь.
Собираются люди твои
говорить о грядущем твоем,
Люди, что знают смерть,
люди, что знают труд.
Слышны на дорогах шаги
шахтера и кузнеца,
Спешат из аулов и сакль
сквозь горные рубежи —
К высоким трибунам несут
земли дорогие сердца,
Драгоценнейшие слова
из всех, что узнали за жизнь.
Тесно таким словам
среди карнизов и ниш,
В проходах крутых анфилад,
под лепкою гулких зал.
Рождаешься ты в тишине,
ты входишь в мир и звучишь
Истории первый такт —
наш „Интернационал“!
Пели мы тебя перед сраженьем,
пели в день восстания отряды,
Пели мы тебя и перед смертью
и в лицо смеялись палачу.
С корабля сходила ты последней,
ты крепила наши баррикады,
Первою врывалась ты в редуты,
с нами в битву шла плечом к плечу.
Так, в безлюдных ли дворцах империй,
в каменных ли панцирях хоромов
Иль в костлявой готике соборов,
в капищах рукастого креста,
В слепоте камней и алебастра,
в прозреванье арок и проломов
Нет тебя достойного величья,
и твоя не в этом простота.
Вот твой дом — просторный и прекрасный,
дом, в который входит наша песня,—
И колонн гранитных вереница
перед ней, гремящая, встает.
Сотни тысяч мастеров проходят,
в блеске стен, среди озер чудесных
В мраморе отбиты. Каждый молвит
из творцов: „Всё — наше. Всё — мое“.
Каждый имя мастера врезает
в великаньи грани обелиска,
Класс в кристалле вечности и славы
начертал победный ряд имен.
И флагшток звенит, врезаясь в небо,
пламенем объятый исполинским,
В первый раз восходит наше солнце,
встав в победный караул знамен!»