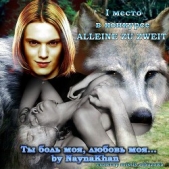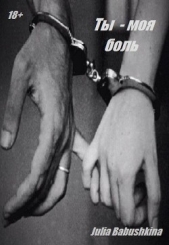1
Глобальное потепление
хлюпает над головой.
Семидесятипятилетие
стоит за моей спиной.
Я хрупкие ваши камеи
спасу, спиной заслоня.
Двадцатого века каменья
летят до вас сквозь меня.
Туда и обратно нелюди
сигают дугою вольтовой.
Стреляющий в Джона Кеннеди
убил Старовойтову.
Нет Лермонтова без Дарьяла.
В зобу от пули першит.
Стою меж веков – дырявый,
мешающий целиться щит.
Спасибо за вивисекции,
нельзя, говорят, узнать
прежнего Вознесенского
в Вознесенском-75.
Госпремия съела Нобеля.
Не успели меня распять.
Остался с шикарным шнобелем
Вознесенский-75.
К чему умиляться сдуру?
Гадать, из чего был крест?
Есть в новой Архитекстуре
Архитекстор и Архитекст.
2
Люблю мировые сплетни.
В семидесятипятилетие
люблю про себя читать
отечественную печать.
Но больше всех мне потрафила
недавняя фотография,
которую снял Харон,
где главная квинтэссенция
в подписи:
«Вознесенский
в день собственных похорон».
Газета шлёт извинения.
А «Караван историй» –
печатает измышления,
что в Риге или в Эстонии
я без смущения всякого,
у публики на виду,
имел молодую Максакову
как падающую звезду.
Редактор, что вы там буровите?
Вас вижу в восьмом ряду.
Напиши вы такое о Роберте –
он бы передал вас суду.
А дальше – про дачи в Ницце,
валютный счёт за границей
и бегство из психбольницы
в компании сеттера…
А дальше – etc.
Всё это неэлегантно,
но я отвергаю месть.
Публикаторы – аллигаторы,
но дети их хочут есть.
«Лежит на небесах для быдла
тарелка, как патиссон.
А женщин у него было
в жизни – до четырёхсот.
Приятели его были круче:
“Колонный взят, мужики!”
Второй, любовницами окученный,
собрал – Лужники!
Как пламенный танец фламенко
таит и любовь, и месть –
сам выбрал театр Фоменко
на четыреста пятьдесят мест».
Вознесенский-75,
не так эту жизнь ты прожил,
родившийся, чтоб понять –
зачем в этот мир, не засранный
продуктами телесистем,
мы, люди, посланы, засланы –
куда и зачем?
3
Все юбилеи – дуплетные.
И вам, несмотря на прыть,
семидесятипятилетие
нельзя повторить.
Спасибо, что я без срама
дожил до потери волос.
За Бродского, за Мандельштама,
которым не довелось.
За Вас, Борис Леонидович,
за Вас, Анна Андреевна.
Вашей судьбе позавидуешь,
Вы – Волк на плечах с Царевной.
Я счастлив, что мы увиделись
задолго до постарения.
4
Поэты чужды гордыни,
для них года – ерунда.
Были б стихи молодыми,
значит, муза была молода.
Спасибо за «встречи с Хрущёвым».
За критические затрещины.
Пришла воскресеньем Прощёным
сменившая имя женщина.
Ведь имя не только хреновина,
а женщина, как Земля,
тобой переименована,
значит – навеки твоя.
Спасибо, что век нас принял,
спасибо, что миновал.
Что я изобрёл Твоё имя,
Тебя переименовал.
Всё это носится в воздухе.
А Афанасий Фет,
сирень окрестивший «гвоздиком»,
стал первый её поэт.
5
Когда-то в рассветном дыме
мы были, дуря народ,
самыми молодыми.
Теперь же – наоборот.
А может, правы массмедиа –
хвалимый со всех сторон,
и правда, я стал свидетелем
собственных похорон?
Прорвавшиеся без билетика
и слушающие нас сейчас,
семидесятипятилетними
хотел бы представить вас.
Скажу что-то очень простое,
как секс у Бардо Брижит,
за что умирать не стоит,
а попросту стоит – жить.
Умрут живые легенды,
скажу, отвергая спесь:
есть русская интеллигенция!
Есть!
Пресса к Наине Ельциной
выказывает интерес:
есть русская интеллигенция!
Есть!
Конечно, с ингредиентами
Вознесенского можно съесть.
Но есть русская интеллигенция.
Есть!
Я был не только протестом.
Протест мой звучал как тест.
Я был твоим Архитекстором.
Пора возвращаться в Текст.
2008