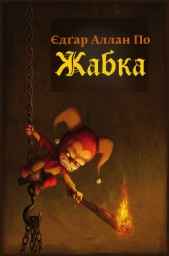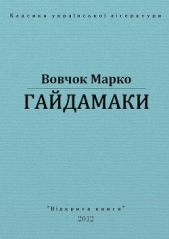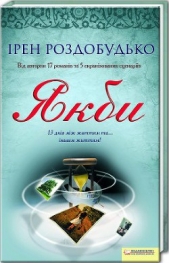Гайдамаки. Музыкант. Наймычка. Художник. Близнецы

Гайдамаки. Музыкант. Наймычка. Художник. Близнецы читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Та от везу панка з Глемязова, та бачите, яка непогодь.
Я тоже подошел к хозяйке и сказал:
– Позвольте, если можно, переночевать у вас.
– Извольте, с большим удовольствием, – отвечала она мне, с едва заметным малороссийским акцентом: – Прошу покорно в комнату.
Я взошел на крылечко. На пороге меня встретила девушка со свечой в руке, по-крестьянски одетая, но опрятно и даже изысканно. Отступая назад в комнату, она сказала чисто по-русски: – Прошу покорно! – из чего я заметил, что это не служанка.
Войдя в комнату, мы остановились друг против друга и простояли до тех пор, пока не вошла хозяйка хутора в комнату и не сказала:
– Наташа, что же ты не просишь гостя садиться? Стоит себе со свечою, как пономарь. Рекомендую вам, это полтавская институтка! Прошу покорно, садитесь!. И бог их знает, чему они их учат в том институте. Ну, я уже по хозяйству у своей и не спрашиваю, да хоть бы человека чужого умела привитать, а то стоит себе.
Потом обратилась она к девушке, сказала ей что-то шопотом, и та вышла в другую комнату. Хозяйка ушла вслед за нею, сказавши: – Извините нас! – Я между тем стал осматривать комнату. Комната была для хутора довольно большая и по величине своей низкая, но чистая и опрятная; мебель старинная и разнохарактерная; на стене висел в черной деревянной раме портрет Богдана Хмельницкого, а на круглом столе, рядом с каким-то вязаньем, лежала книжка «Отечественных Записок» [85], развернутая на «Давиде Копперфильде» [86]. В это время вошла хозяйка. Я теперь только обратил на нее должное внимание. Это была женщина высокого роста, полная, не до безобразия, с лицом довольно еще моложавым и добродушным. Одета она была на манер богатой мещанки или солидной попадьи, а если б у нее на голове вместо платка был кораблик, то я подумал бы, что это явилась передо мною с того света какая-нибудь сотничиха или полковница.
– Что это вы, – сказала она, снявши со свечи, – любопытствуете, что читает моя Наташа? Да, она у меня, слава богу, большая охотница читать, да и меня на старости лет приучила, так что мне теперь и скучно сидеть с работой без чтения. Думаю на будущий год выписать еще «Современник» [87], а то одной книги в месяц для нас мало, мы ее наизусть выучиваем.
Вскоре был подан чай, то есть самовар, а вслед за самоваром вышла и Наташа, одетая уже барышнею.
– Не втерпила-таки, – проговорила мать, улыбнувшись, и потом прибавила: – Наливай же чаю, Наталочко! Я ее, знаете, приучаю понемногу к хозяйству, – сказал она, обращаясь ко мне.
– И прекрасно делаете, – ответил я. – Зачем они только костюм переменили? Им наш народный костюм к лицу.
– Мне она сама больше нравится в простом платье, так вот подите, поговорите с нею!
Наташа краснела, краснела и, наконец, покраснела как вишня и выбежала из комнаты.
– Ах ты, бессережная! – проговорила ей мать вслед и принялася сама разливать чай.
Незнакомки мои принадлежали к числу тех немногих людей, с которыми сходишься при первом свидании. В продолжение трех часов я с ними совершенно освоился и со всеми подробностями узнал их домашний быт, наклонности, привычки, доходы и расходы и даже часть их биографии.
Елена Петровна Калита, вдова небогатого помещика нашего уезда, воспитывалась тоже в институте, только хутор, как говорит она, перевоспитал ее по-своему.
– А когда Наташа родилась у нас, то мы с покойным моим Яковом того же дня положили, чтобы каждый год уделять из наших бедных доходов маленькую сумму собственно для воспитания Наталочки. От и воспитали, – прибавила она шутя, – а она не умеет и чаю налить.
После ужина я с ними простился, чтобы завтра с рассветом пуститься в дорогу.
И действительно, перед восходом солнца я оставил хутор. Меня проводило за ворота стадо индеек и стадо гусей; кроме них, никто еще на хуторе не шевелился. Лошадки отдохнули, возница мой повеселел и, еще не садяся в телегу, насвистывал какую-то песенку.
Выехавши за ворота, он поворотил вправо, а мне казалося, что нужно взять влево Но так как вчера ночью приехали на хутор, то я и не мог утвердительно сказать, которая наша дорога, а потому и рассудил положиться на опытность возницы, говоря сам себе: – Он же меня завез на хутор, он и вывезет – Пустив вожжи, словоохотный возница, после панегирика хозяйке хутора и ее дочке, стал мне описывать ее богатство.
– Оце все, що тилько оком скынешь лису, все ии. А лис-то, лис мыленный, – дуб, наголо дуб, хоч бы тоби одна погана осыка! Та що тут лис? А други добра, а степы, а озера, а ставы та млыны та що й казать! Сказано – пани, так пани и есть… А ще я вам скажу…
Тут лошади остановились. Возница, увлекшись рассказом, не посмотревши вокруг себя, прикрикнул на лошадей, лошади дернули и задняя ось отскочила, а я вывалился из телеги. Тогда он закричал: – Прруу, скажени! – и, посмотревши вокруг, проговорил: – От тоби й на!.. Дывыся, проклятый пень де став: якраз посеред шляху. Я ще вчора думав, що мы в цим диявольским лиси де-небудь та зачепымось. – Воно так и сталося.
– Що ж мы тепер будемо робыть? – .спросил я.
– А бог ёго знає, що тут робыть! – и, подумавши, прибавил:
– Эх, головко бидна, сокыры нема, а то б повалыв дуба, – от тоби и вись. Вернимося на хутир, там чи не дамо якои рады.
Я обрадовался, не знаю почему, этой благой идее и, разумеется, беспрекословно изъявил согласие, и, пока возница укладывал колесо на телегу, я тихо пошел между деревьями по направлению к хутору.
Солнце уже прорезывало золотыми полосками чащу леса, когда я подошел к живой изгороди хутора. Тут я остановился, чтобы подумать, в которой руке я оставил дорогу. В эту минуту разлился как-то чудно по лесу прекрасный девичий голос. У меня сердце замерло, и я, как окаменелый, стоял и долго не мог вслушаться в мелодию. Голос ко мне близился, я уже стал разбирать слова песни:
Ой ти, козаче, ти, зелений барвiночку!
Хто ж тобi постеле в полi бiлую постiленьку?
Голос становился слабее и слабее и, наконец, совсем замолк. Я, освободившись от обаяния лесной музы, пошел около изгороди и вскоре очутился на хуторе. Первое, что мне попалося на глаза, это была выходившая из садовой калитки Наташа. Она мне показалася настоящею богинею цветов: вся голова в цветах, между волосами, вместо жемчуга, бусы из белых черешен. Будь она одета барышней, эффект был бы не полный, но к наряду крестьянки так шли эти огромные цветы и черешневые бусы, что пестрее, гармоничнее и прекраснее я в жизнь свою ничего не видывал. Она, с минуту простоявши, исчезла за калиткой, а на крыльце показалась мать, одетая по-вчерашнему. Увидя меня, она громко засмеялась и проговорила:
– Что, далеко уехали?
Я приветствовал ее с добрым утром и вошел на крылечко.
– Что, небось, с нами не скоро разделаетесь? – говорила она, смеясь. Прошу покорно, – прибавила она, указывая на скамейку.
Я сел.
– Наталочко! – закричала она: – скажи Одарци, нехай самовар вынесе сюда на ганок! Я с нею так привыкла к своему простому языку, что иногда и гостей забываю.
– Я сам чрезвычайно люблю наш язык, особенно наши прекрасные песни.
Вслед за Одаркою, выносившею самовар, потупя голову, скромно выступала зардевшаяся Наташа.
– Слышишь, Наталочко, они тоже любят наши песни. А уж она у меня так и во сне их, кажется, поет и, знаете ли, ни одного романса не знает. По возвращении из Полтавы пела, бывало, иногда какой-то «Черный цвет», а теперь и тот забыла.
Я рассеянно слушал и любовался Наташей, и мне почти досадно было, зачем она опять нарядилась барышней.
– Ах, я божевильная, – воскликнула вдруг хозяйка. – А ты, Наталочко, и не напомнишь! Ведь сегодня суббота, а мы в субботу собиралися ехать в Переяслав. Одарко! – Служанка появилася в дверях, сказавши тихо:
– Чого?
– Скажи Корниеви, щоб брычку лагодыв и кони годував, а пообидавши, рушимо в дорогу.