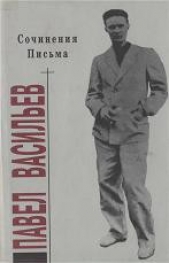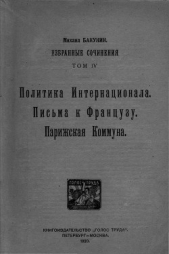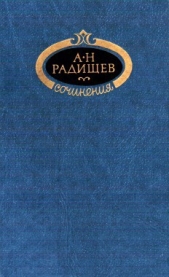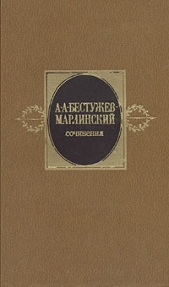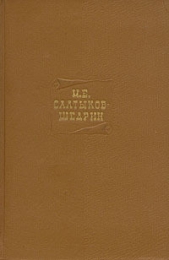— Ве-е-едут. —
И тут,
Кулаки вздымая,
Бежал Черлак
(Убивцев веду-ут),
И тут
Первым Ярков на крыльцо шагнул —
Огневая
Рубаха на нем
И черный тулуп.
И Митины за ним,
Кривобоки, немы,
Перекосило, скрючило их,
А по бокам — зеленые шлемы
И синяя сталь
Сторожевых.
А к воротам уже
Подошла подвода, —
Сани
Под парусом медвежьим —
Корабль.
Пристяжные глотали
Удил гремучую воду,
Заиндевел коренник
И зяб.
— Ве-е-е-едут! —
Ярков уже ногу ставил
На ступень последнюю,
На снег встал,
И веко тяжелое, будто ставень,
Над глазом остывшим
Приподнимал.
Но сбоку,
Дорогу пересекая,
Выше крыш занося кулак,
Рванулась ненависть людская,
И, запыхавшись,
Вбежал Черлак.
И, многоликий,
Пошел к крыльцу.
Так и стояли —
Лицом к лицу.
Черлак еще не знал,
Зачем с дубьем,
С вилами у этого он у крыльца.
Но не было, не было лица на нем,
Не было на нем
Лица.
Дух переводя,
Куда-то спеша,
Стоял он, громко дыша.
И сделал шаг один, небольшой,
К крыльцу,
И снова стояли лицом к лицу.
И младший Митин
Не выдержал — с каблуков.
Воздух кусая, заплакал и скоро
Заговорил: — Соседи! Ярков…
Телку сулил…
По его наговору…
Молча, второй, чуть поболе, шаг
Сделал навстречу ему Черлак.
И кто-то явственно,
Как часы бьют,
Сказал: — Какой здесь
Может быть суд?
Просим их выдать нам.
Мы им — трибунал. —
И голос бабий запричитал,
Запричитал:
«Ах, уж как лежал
Сашенька наш родненький,
Все-то личико у него
В кровиночках,
Пальчики-то все перебитые…»
И сразу толпа пошла на крыльцо —
Горем вскрыленная стая,
Но стали холодное полукольцо
Сомкнулось,
И голос:
— Остановись, стреляю!
(«…А уж как глазыньки-то у него
Запеклись, у милого,
Весь-то лежит измученный,
Изувеченный…»)
Трехъярусное раскачивая войло,
сопя, Коротконогий,
Нагулявший мяс до отказу,
Коровьи запахи втягивая в себя.
Багровошерстный, золотоглазый,
Неповоротлив, нетороплив,
Останавливаясь, чтоб покоситься,
Курчавый лоб до земли склонив,
Он
Надвигался
На станицу.
И на бугре,
Над шатким мостом,
Над камышовой речной прохладой,
Встал, ударяя львиным хвостом,
Пылая, — лютый водитель стада.
И вслед за ним
По буграм покатым
Вслед за мужем, за бугаем,
С хребтами красными от заката,
Багровым осыпанные репьем,
Вслушиваясь
В длинный посвист бича,
Окружены сияньем и ревом,
Четверорогое вымя
Тяжело волоча,
Шли одичавшие за день коровы.
Солнце они несли на хребтах,
Степь в утробах, —
Полынь и траву ее.
…А в ивняке, от станицы в ста шагах,
Закружилось пьяное комарье.
Это трубила
Начало ночь.
Утка закрякала.
В темень, во мглу
Старая сова зазывала дочь
Учиться охотскому ремеслу.
И кто-то в ивняке,
На том берегу,
Тяжелый, сквозь заросли пробираясь,
Спросил: — Стараешься ли?
— Ста-ра-юсь.
Спросил еще: —
Бе-ре-жешь?
— Берегу. —
И кто-то в ивняке, оклад бороды
Поглаживая,
Над ширью воды,
На стадо сверкающее взирая,
Сказал:
— Насчет колхоза туды-сюды,
Но Фильке Иваншину
Не доверяю,
Сукину сыну…
А Филька шел,
Улыбку в хвою бородки спрятав,
В уме прикидывая: «Хорошо,
Коровий генерал-губернатор:
Ишь, доверяют, стало быть…
Шутка ли? Всё колхозное стадо —
Думал, что ни за что, стало быть,
Так сказать, мужикам не забыть
Прения мои и доклады…
А вдруг припомнят, ну-ка…»
И сразу
Вычертил след змеиный бичом
Вслед бугаю: — Пошел, лупоглазый,
Опаздываю,
А ему нипочем.
……………………………………………
А по станице шумели: — Идет,
Гонят. — Кого?
— Обчественный скот.
Вся станица встала кругом,
И, еще тихи и робки,
Доярки переглядывались с испугом,
Туже завязывая платки,
Слыша, как гул идет со степи:
— Справимся ль? Господи, пособи!
Управимся ли… —
И тогда
Старшая сказала:
— Чего там! Айда!
И, приподняв усмешкою
Губ края,
Рукав засучивая сурово,
Хитро мигнула на бугая:
— Весь в хозяина, весь в Яркова.
А окладистобородый
Тут же при всех
Подошел к Иваншину: — А ну-ка,
Был за тобою грех?
— Был грех.
— Высказывался за тех?
— За тех.
— Наука это тебе?
— Наука.
— Свое? — на скотину косясь.
— Свое.
— С уважением пасешь?
— Пасу с уваженьем.
— Предпочтеньем дорожишь?
— Дорожу предпочтеньем.
— Бережешь ее?
— Берегу ее.
1933–1934