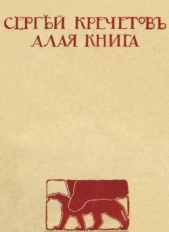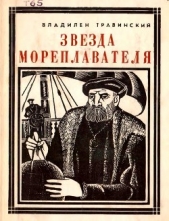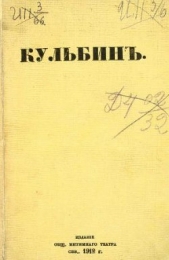«Счастливый путь, родимый наш, великий…»
Счастливый путь, родимый наш, великий,
Краса веков и сила наших дней!
Средь всех ты был как светоч тихий
Зажженных в человечестве огней.
Всю жизнь ты шел. И путь последний здешний
Был к матери-земле на грудь,
Чтоб, с ней вздохнув вольней и безмятежней,
Уйти в бессмертный свет. Счастливый путь!
1910
«В лавчонке тесной милого глупца…»
В лавчонке тесной милого глупца
Твоих творений первое изданье
Приобрести — какое ликованье! —
Смятенно чуят веянье творца…
Как дороги истлевшие листы,
Ритмичный трепет каждого абзаца,
И типография Эдварда Праца,
И титула надменные черты!
«Бальмонт, наш пленительный, сладостный гений…»
Бальмонт, наш пленительный, сладостный гений,
Владыка созвучий, волшебник словес!
Как счастлив я, пленник твоих упоений,
Свидетель твоих неизбывных чудес!
Ты в серое время запел свою песню,
Ты пел иступленно в огне и дыму,
Когда разоряли безумную Пресню,
Так пой же и ныне, в полдневную тьму!
«Он страшен мудростью змеиной…»
Он страшен мудростью змеиной
И накипью бесстрастных глаз;
За тонкотканной паутиной
Он холоднее, чем алмаз.
Но в миг единый, в миг нежданный
Вдруг сердце вспыхивает в нем
И озаряет мир туманный
Всечеловеческим огнем.
<1914>
«И зачем-то загорались огоньки…»
«И зачем-то загорались огоньки»…
Древний! Вечер надвигается. И звон
Дальней вечери доносится с реки.
Отдаю тебе, печаль, земной поклон.
Нет, не лика, потускневшего в годах,
И не плоти отцветающей мне жаль.
Ты о голосе, звончайшем на пирах,
Шелести плакучей ивою, печаль!
«Я и днем, и в тихий вечер приходил…»
Я и днем, и в тихий вечер приходил,
В землю зимнюю стучался и молил
И прислушивался к жизни под холмом —
Только ветер пел смешливым голоском.
Ничего здесь не осталось, ничего!
Видно, вправду под могилами мертво!
Где ж огонь, что вихрем ярым мир ожег?
Безответно улыбался звездный лог.
«Тайным утром, в час всеснежный…»
Тайным утром, в час всеснежный,
О тебе — в тиши, не вдруг, —
Так подумалось мне, друг:
Опечаленно-мятежный,
Кроткий духом, мукой мудрый,
Дерзкий речью, люб мне он,
Пленник медленных времен,
Путник ночи серокудрый.
«Седой и юный, Руси простивший…»
Седой и юный, Руси простивший
И каземат свой, и кандалы,
Скажи, видал ли средь звездной мглы,
В нее пытливый свой взор вперивши,
Такие страны, как этой дикой
Руси родимой ночная гладь,
Где жизни буйственно великой
Дано так жалко трепетать?
«С какой тоскою величавой…»
С какой тоскою величавой
Ты иго тяжкое свое
Несешь, вымаливая право
Сквозь жизнь провидеть бытие!
Уж символы отходят в бредни,
И воздух песен снова чист,
Но ты упорствуешь, последний,
Закоренелый символист.
<1913>
«Звериный цесарь, нежити и твари…»
Звериный цесарь, нежити и твари
Ходатай и заступник пред людьми!
Скажи, в каком космическом пожаре
Ты дух свой сплавил с этими костьми?
Старообрядца череп, нос эс-эра,
Канцеляриста горб и дьяковы персты.
Нет, только Русь — таинственная эра —
Даст чудище, родимое, как ты.
«Как только вспомню этот голос…»
Как только вспомню этот голос,
Произносящий стих Гомера, —
Мне мнится: сфера раскололась,
Веков сияющая сфера.
И запевает дед поэзий,
Для нас воскреснувший прекрасно,
Средь жизни, гибнущей в железе,
О жизни, с мудростью согласной.
«В сердце дверь всегда открыта…»
В сердце дверь всегда открыта
У того, кто сердцем чист…
Тлела осень, падал лист,
Море пенилось сердито.
Хвойный лес шумел тревожно,
Мы пришли в твой нежный сад.
Вот и все. Ужели можно
От тебя уйти назад?
1914