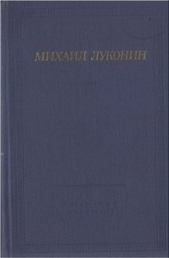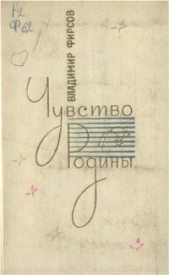Рассвет сигналом махнул долгожданным.
Лелековку гусеницы жевали.
Фашисты, стальным охваченные арканом,
из города просочатся едва ли.
Мосты запрудив и дороги притиснув,
город совсем опоясали за ночь,
окраины города — наши танкисты,
солдатские хутора — партизаны.
Четвертого землю, покрытую мраком,
небо снегом осыпало черным и крупным,
немцы разлеглись по глубоким оврагам,
половодье перепрыгивало по трупам.
Пятого января на рассвете
город, глаза нам пожарами выев,
наши машины разгоряченные встретил,
подбрасывая под них мостовые,
протягивая нам мосты и заборы,
улицы-реки простирая нам с гулом.
Пошли перед нами следопыты-саперы,
пехота — сразу к центру шагнула.
Улицы пересекают траншеи.
Радисты разглядывают их пулеметом,
фашисты присели там, вытянув шеи,
как будто их одолевает дремота.
Улицы отзываются громом и хрустом,
потом всё обрушилось,
закружилось,
сломалось.
В эту минуту стало тихо и пусто,
так тихо и пусто,
что воробьи испугались.
«Город свободен,
оставаться на месте!» —
радист передал приказанье комбата.
Сема горько сказал:
«Вот, приехал к невесте».
«Выходите, выходите, ребята!»
Мы оказались в бушующем круге.
Зная, что их ни за что не осудят,
девушки, вскинув легкие руки,
встают на носки, зажмуриваются и целуют…
Солнце поднимается выше.
Январь в начале. А такая погода!
Уже почернели задымленные крыши,
как механики после большого похода.
Сосульки, желтые от дыма времянок,
свесили хрупкие ноги с карнизов.
На шпиль над каланчою румяной
клок облака утреннего нанизан.
Девушки смеются от счастья:
«Как мы ждали вас! Как мы ждали, родные!..»
А Сема курит хмуро и часто.
«Хорошо, если так, а бывают иные..»
— «Не смеете так, вам просто налгали.
За наших девчат поручиться мы можем.
Все, кто тут оставались, мы вам помогали».
Сема сердится:
«Ну, не все, предположим!..»
— «Мы не знаем такой. Призывайте к ответу!
Подождите, узнаете, как мы боролись!»
— «Вы всё же напрасно ручаетесь. Эту
я-то знаю», — надрывается голос.
«От рабства сумели отбиться,
на ходу из вагонов прыгали в двери, —
горькие слезы дрожат на ресницах. —
Мы не думали, что нам не поверят».
— «Не плачьте, — говорю я, — ну что вы!
Значит, хорошо. Этим можно гордиться».
А Сема подсказывает снова:
«Но не все так. Есть отдельные лица!»
— «Есть, — говорю я, — не спорьте, девчата.
Вот одна так совсем встрече с нами не рада.
Скоро она будет к стенке прижата».
— «Кто такая?»
Сема шепчет: «Не надо!»
Я замечаю сигналы радиста
и к машине иду. Не досказано, жалко.
«Что случилось?»
— «Приказ: „Сосредоточиться быстро.
В восемь тридцать. Около парка“».
«Прощайте! — говорю я. — Пора нам, девчата».
— «Жалко. Так скоро. Заедете, может?»
— «Может, заедем по дороге обратно», —
говорю я,
а что-то сердце тревожит.
Сема вдруг:
«До свиданья, Раиса! —
И легонько в плечо ударяет ладонью. —
До свиданья, Свиридова. Мышеи всё боишься?
Руку, Горкина, имя ваше не помню…»
И сразу стало тихо в округе.
И слышно — капли постукивают о камень.
Девушки, прислонившись друг к другу,
изумленными поблескивают зрачками.
Словно молния тишину осветила,
на Сему обрушились и руки и губы.
«Сема, Руденко, что же ты, милый!»
— «Что же ты! Опоздал ты! Вот если бы Люба…»
— «Что с Любой? — спрашиваю, замирая.—
Не плачьте!» — приказал я им строго.
Лицом к броне прислоняется Рая.
«Не успел ты. Ты бы раньше немного».
— «Не удалось ей спастись…
Как ждала тебя, Сема…»
— «После побега мы летели, как птицы…»
— «Где она?»
— «Стали у них эсэсовцы дома.
Когда вернулась…
Гад решил объясниться.
В морду кружкой влепила — согнулась жестянка.
Ты помнишь, ведь умела подраться!
Он донес на нее, этот немец из танка,
и угнали ее в Германию. В рабство…»
Танк грохочет вдоль переломанных улиц,
и тишина отпрыгивает к заборам.
«Сема, мы еще не вернулись!»
— «Не вернулись и вернемся не скоро».
— «Сема! — кричу я. — Не прощу себе сроду
за всё, что о Любе…
Называл тебя тряпкой.
Она научила нас верить народу…»
Сема склоняется над боеукладкой.
В парке закипает работа,
пока еще слышны выстрелы где-то,
в бригаду вызывают кого-то,
кто-то песню запевает про Лизавету.
Сема отправился к Любиной маме,
мы «тридцатьчетверку» заправили нашу
и обедаем — я, радист и механик.
Дождик накрапывает нам в кашу.
Девушки, улыбаясь несмело,
идти стесняются в изношенных платьях,
друг друга подбадривают:
«Подумаешь, дело!
Не засмеют нас, понимают же. Братья!»
Потом они подходят поближе,
умытые дорогими слезами.
Я гляжу в котелок — и ничего не вижу.
Дождь ли это застилает глаза мне?
К губе подбегает горячая россыпь,
языком ее — солоноватая жидкость.
Читают девушки: «Комсомолец Матросов».
Просят нас: «Кто это, расскажите!»
Истребители пролетают над нами.
«Русские!» — крикнули девушки и запрокинули
лица.
Радист спросил: «Вы не русские сами?»
Стало слышно, как весна шевелится.
«Наши! Выражайтесь яснее.
Наши, слышите, это наши летят-то…»
— «Наши!» — девушки шепчут, краснея.
«Наши!..» — повторяют девчата.
Город обдут январем необычным,
окна сияют теплынью досрочной,
и смех мешается с говором птичьим,
с грохотом трубы водосточной.
Коля, радист наш, отбросил окурок.
«За Уралом нам придется жениться!»
— «Почему так?»
— «А что же, — отвечает он хмуро, —
тут каждая нагляделась на фрица».
— «Брось наговаривать на девушек, Коля», —
обрезал механик.
«Что, неверно, Нехода?»
— «Что же они, не советские, что ли?»
— «Дело не в этом, а привыкли. Три года!»
— «Привыкли? А тогда почему же
они из Германии под пулями убегают?
Ничего не страшило их: ни голод, ни стужа!
Кто листовки тут издавал к Первомаю?
Не их ли фашисты водили под стражей?
Хлеб несли они партизанским отрядам,
в старье наряжались, и мазались сажей,
и горбились, чтоб не понравиться гадам…
Фашизм на них обрушился втрое,
тоску по свободе
они испытали всем сердцем.
Мы на танке —
нас возводят в герои,
а они,
безоружные,
не поддались иноземцам!
Мы перед ними должны извиниться.
Они страдали не меньше любого солдата.
А то, что они оказались в лапах у фрица, —
в этом, друг мой, мы с тобой виноваты».
«Так, так, — думаю я, — вот так лупит!
Бьет по радисту, а по мне попадает.
Это я ведь тогда разуверился в Любе,
и не Семку,
а народ свой обидел тогда я».
И опять прислушиваюсь к Исходе:
«Не смеем людей мы по предателям мерить!
Не смеем плохо думать о нашем народе!
Нашим девушкам мы не смеем не верить!»
Оправдывается радист:
«Я ведь тоже,
сам знаешь, не последний в сраженье».
— «Ну, это каждый обязательно должен.
Это ведь долг твой, а не одолженье».
— «Есть такие, — продолжает механик,—
в хату прет не спросясь, гордо ноги расставит,
за стол еще залезает нахально,
а не то — так кричит:
„Немца вам не хватает!“
Мы, ребята, судить этих будем,
за оскорбленье народа —
получайте по шее!
Мы идем не за помощью,
а помочь нашим людям,
чтоб утешить, а не искать утешений!..
Нет, не прав ты, Коля, не так ли?
Наши девушки! Ими надо гордиться,
это тебя они в страдании ожидали,
ты обязан в ноги им поклониться!»
«Так, так, — думаю я, — это дело!
Верно, парторг, это верно, Нехода».
А радист оправдывается несмело:
«Я ведь так,
есть такая разговорная мода…»
— «Это верно, — говорю я, — так что же,
понятно, радист? Где же будешь жениться?»
Он смеется: «Где найду помоложе!»
— «А Нехода?»
— «Дай домой возвратиться!»
— «А ты?» —
мне сердце второпях зашептало
и высказывает от удара к удару
то, что мечтой моей и волнением стало.
А память мне рисует Тамару.
«А я, — говорю, — я еще выбираю.»
— «Рассказывай, командир, ну, чего там!..»
— «Приказано выйти к переднему краю.
Вот дорога. Тут стрелковая рота.
Пулеметы не дают продвигаться.
Проутюжить — и вернуться к больнице,
а мне доложите в десять пятнадцать».
— «Есть!»
— «Идите!..»
— «Собирайтесь жениться!..»
Сема вернулся.
«В дорогу, Нехода!»
— «Не горюй, я уверен — вы будете вместе.
Ведь следом за нами наступает свобода!
Путь к любимой — лучшее из путешествий!»