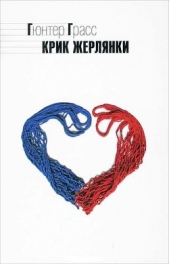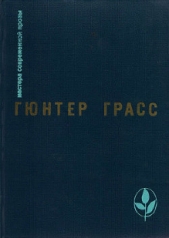Встреча в Тельгте. Головорожденные, или Немцы вымирают. Крик жерлянки. Рассказы. Поэзия. Публицистик

Встреча в Тельгте. Головорожденные, или Немцы вымирают. Крик жерлянки. Рассказы. Поэзия. Публицистик читать книгу онлайн
В четвертый том Собрания сочинений Г. Грасса вошли повести «Встреча в Тельгте» и «Крик жерлянки», эссе «Головорожденные», рассказы, стихотворения, а также «Речь об утратах (Об упадке политической культуры в объединенной Германии)».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Еда, внесенная служанками по распоряжению хозяйки, была, впрочем, не такой уж скудной: в глубоких мисках дымилась пшенная каша, обильно сдобренная салом и приправленная свиными шкварками. Горячие колбаски и хлеб грубого помола были также на столе. Помимо того, хозяйкин огород, притаившийся в диких зарослях позади дома (и схоронившийся — от фуражиров), даровал лук, морковку и хрен — все это, свежесорванное, подавалось на стол и отлично шло под пиво.
Они нахваливали простоту трапезы. Даже привереды, увлекаясь, утверждали: давно уже их желудки не были столь ублажены. Векерлин проклинал английскую кухню. Гофмансвальдау называл сельский стол пиршеством богов. Гарсдерфер и Биркен наперебой цитировали — по-латыни и в немецких переложениях — античные пасторали с описанием подобных обедов. А в словесном водопаде ведельского пастора Риста, которому Дах препоручил застольную молитву, эмская пшенка превратилась в манну небесную.
Вот только Гельнгаузен сначала что-то бурчал себе под нос, а потом стал громко бранить хозяйку: ты что, Кураж, рехнулась? Такую жратву его рейтары и мушкетеры, скромно расположившиеся на конюшне, второй раз и в рот не возьмут. Они — с их-то жалованием — держат сторону императора лишь до тех пор, пока жаришь им цыплят, говядину да свинину. А не кормить досыта, они завтра же переметнутся к шведу. Ибо как мушкету потребен сухой порох, так мушкетеру — добрый дух. Аполлон с его лебединой шеей быстро попадет под разбойничий нож, лиши его только Марс своего попечительства. Говоря иначе: без военной протекции поэтический диспут долго не протянет. Он только хотел сообщить господам во предостережение — Кураж-то сама это знает! — что вся Вестфалия, особенно же текленбургская сторона, усеяна по берегам Эмса не только кустами, но и бродягами.
С этими словами он удалился вместе с Либушкой, которая, очевидно, вняла тому, что Гельнгаузеновы рейтары и мушкетеры нуждаются в добавке. Присмиревшие, но также и возмущенные столь беспардонной дерзостью, литераторы на какое-то время остались одни. Пусть себе отведут душу вольными словопрениями. Не может быть, чтобы неутомимым плетением дактилических словес не перехитрили они опасности и не отстояли свою встречу; да сгинь весь мир, они все одно будут и средь тарарама спорить о правильно и неправильно составленных стопах. Ведь в конце концов всё — не одному Грифиусу в его блистательных сонетах это открылось — суета сует.
А потому литературная беседа за столом, под жеванье и стук ложек, потекла себе дальше. На одном конце стола — напротив Даха — Бухнер, жестикулируя, выражал свою неприязнь к отсутствовавшему Шоттелю, которого уличал в нападках на «Плодоносное общество». В ответ Гарсдёрфер со своим издателем Эндтером — они вынашивали кое-какие совместные прожекты с Шоттелем — передразнивали магистрову манеру говорить. Всюду сыпались шуточки над теми, кто не приехал; вспыхивал и метался из стороны в сторону спор — в соли с перцем не было недостатка, и слова вылетали из жующих ртов, как камни из пращи: тут, сидя верхом на скамье, кто-то ехидно подсчитывал нижненемецкие pedes в творении Лауремберга; там Цезен и Биркен лягали усопшего Опица, называя его стихотворные правила тюремной решеткой и браня его образы за бесцветность. Оба новатора обвиняли Риста, Чепко и втихомолку Симона Даха в вечном «опицировании». Напротив того, Рист, сидевший с Векерлином и Лаурембергом, возмущался безнравственностью «пегницких пастухов»: в Нюрнберге на заседания «Цветочного ордена» допускаются-де даже женщины. Счастье еще, что хоть Дах не пригласил никого из дам. А то ведь их рифмованные душеизлияния вошли теперь в моду.
В другом месте несколько человек сгрудились вокруг сидящего Грифиуса, раздобревшего в свои тридцать лет толстяка. Так раздули его, видимо, презрение к миру да печаль. Бюргерское платье на нем едва сходилось. Двойной подбородок подбирался к третьей складке. Вещал он громовым голосом, разя и без молний. К тесному кружку, рокоча, обращался как к человечеству и на вопрос, что есть человек, отвечал вереницей слепящих картин. Ответы гласили: все лишь видимость и морок. Грифиус изничтожал. Ему всегда внушало омерзение и то, что он делал. Сколько бы страсти ни вкладывал он в свои писания, с еще большим пылом изрыгал он проклятия тому, что писал. Недовольство написанным, а тем более напечатанным, не разлучалось у него с жаждой видеть напечатанным все им написанное — трагедии ли, кои с недавнего времени стекали с его пера, комедии или фарсы, которые он задумал. Потому-то он мог — едва наметив громозвучные сцены — тут же прощаться «с поэзией и прочей чепухой»: любой зародыш уже попахивал для него тлением. Уж лучше — вот только бы настал мир — приносить осязаемую пользу. Сословия в Глогау давно зовут его стать их синдиком. Как чурался он в прежние времена изворотливой дипломатии Опица, а теперь необходимейшим кажется ему всякое дело, полезное общему благу. Когда — более даже, чем сама страна, — лежат в развалинах обычаи и законы, что еще можно противопоставить хаосу, кроме порядка? Только он один даст поддержку слепым и заблудшим. От цветистых пасторалей да мелодичных консонансов проку не будет.
Такое отвержение написанного слова исторгло из стоявшего в сторонке Логау готовые к печати шпрухи: из кожи будут хлебы, коль сапожник печь начнет. А Векерлин заметил: вся его, уж скоро тридцатилетняя, государственная лямка не перевесит и одной из его од: их все, и совсем новые, и успевшие одряхлеть, он намерен вскоре отдать в печать.
Речи Грифиуса, на все лады возвещавшего гибель литературы и воцарение созидающего порядок разума, не смутили и доселе молчавших издателей, которые не устояли перед соблазном выудить у поэтов уже готовые, обещавшие успех рукописи. Новое издание Векерлина было уже запродано в Амстердам. Мошерош поддался натиску гамбургского книготорговца Наумана. Издатель Эндтер, почти сладив уговор о пространном опусе, приуроченном к торжествам по случаю предстоящего мира, с Ристом, печатавшимся до сих пор в Люнебурге, попытался — наперебой со страсбуржцем Мюльбеном и голландцем Эльзевиром — склонить пронырливого Гофмансвальдау добыть им — одному, другому или третьему — рукопись «Соловья» усопшего иезуита Шпее: и паписта можно напечатать, было б складно писано. Гофмансвальдау посулил — и одному, и другому, и третьему. И будто бы даже — злословил позднее Шнойбер — получил аванс от всех троих; однако напечатан был «Своенравный соловей» Фридриха фон Шпее лишь в сорок девятом году у Фриссема в католическом Кёльне.
Меж тем сумрак сгущался. Кое-кто из господ пожелал еще прогуляться по саду хозяйки, но комары, тучами налетавшие с Эмса, вскоре всех разогнали. Дах восхищался упорным рвением Либушки, которая выращивала свои овощи посреди пустоши, борясь с крапивой и чертополохом. С такою же стойкостью отвоевывал свой садик вокруг Тыквенной хижины на прегельском острове Ломзе его друг Альберт. И ничего от этого сада не осталось. Так пойдет — уцелеет один чертополох, единственный цветок этих дней, символ злосчастной эпохи.
Потом они еще постояли немного во дворе или прошлись в сторону внешнего Эмса, где одиноко торчала брошенная сукновальня. Отсюда хорошо было видно, что местом их встречи служил остров Эмсхаген, образованный двумя рукавами реки. Со знанием дела обсудили разрушения, произведенные в городской стене, лишившейся своих башен; похвалили трубку Мошероша. Поболтали со служанками, одну из которых звали (как и возлюбленную покойного Флеминга) Эльзабой, затем, в окружении прыгающих собак, навестили привязанных к колышкам мулов хозяйки, обративши к ним приветствия на латыни. Все это под шуточки, остроты и подначки друг друга, а также споры — о том, к примеру, следует ли (согласно поучительной цветовой шкале Шоттеля) признать волосы хозяйки Либушки «смолянисто- или угольно-черными» и можно ли назвать сумерки «ослино-серыми». Посмеялись над Грефлингером, который стоял среди мушкетеров, широко расставив ноги, на манер шведских фенрихов, и вещал им о своих походах под началом Банера и Торстенсона. Собирались уж было отдельными группками двинуться по дороге к Эмским воротам — ибо Тельгте все еще оставался им незнаком, — как на двор прискакал кто-то из Штофелевых конников и передал депешу Гельнгаузену, стоявшему с хозяйкой и фельдфебелем мушкетеров в воротах конюшни; и скоро уже все знали: Траутмансдорф, уполномоченный императора, внезапно — дело было 16 июля — и в подчеркнуто приподнятом настроении отбыл из мюнстерского монастыря в Вену, посеяв недоумение в рядах участников покинутого им совещания.