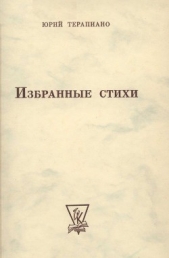Апология
На нашем литературном портале можно бесплатно читать книгу Апология, Алейник Александр-- . Жанр: Поэзия. Онлайн библиотека дает возможность прочитать весь текст и даже без регистрации и СМС подтверждения на нашем литературном портале bazaknig.info.

Название: Апология
Автор: Алейник Александр
Дата добавления: 16 январь 2020
Количество просмотров: 509
Апология читать книгу онлайн
Апология - читать бесплатно онлайн , автор Алейник Александр
Собрание стихотворений и поэм Александра Алейника «Апология» включает в себя подборки из шести книг, писавшихся в общей сложности около 25 лет.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Перейти на страницу:
Я живу в нарастающем мраке аллей,
в настигающей муке кривых тополей,
и белеют в аллеях из темноты,
распрямляя колени, фонтанов кусты.
Опустела столица, а нет десяти.
Лица как из больницы, и небо блеcтит,
точно глаз с воспаленным отливом
чужака в торжестве молчаливом.
Драть подметки, теряться, шептать, розоветь,
отвлекаться, за чьей-то любовью лететь,
не решаясь в лицо заглянуть ей
над молочными лунами грудей.
Оказаться на площади в полночь, когда
слышат Спасскую башню сквозь сон города,
жить в толпе европейцев веселых,
европеянок с сыра «Виола».
Осознать, проходя по пустому двору,
что из гула шагов голоса подберу,
а из космоса — звезд белый уголь,
и печальная смотрит подруга,
как с подсвечника на пол стекает слеза,
а еще нас ведет, застилая глаза,
в звуковой лабиринт великанов
непомерная нежность органа.
29. сент. 79
III. ЛЬВИЦА
Я прекрасно живу в это новое теплое лето,
на глазах у толпы, на руках эскалаторов млею.
Проходя у окна, за которым несчастные в клетках
попугайчики — синий и желтый, — я пленников бедных жалею.
Вот они заприметили нас и забились в волненьи,
ну а мы (это радует, право), мы наконец-то спокойны,
и когда я случайно к твоим прикасаюсь ладоням,
наши позы скромны, наши лица безмерно достойны.
Ты несешь свою рыжую гриву (такие есть львицы!)
накрашенным ртом улыбаясь,
я несу желтоватую вечно ухмылку.
Тополя по-московски фонтанам рыдающим бают.
Нам в метро подсыпают, как в цирке, сырые опилки.
Хорошо, моя львица, кружиться по этой арене,
через обруч горящий с триумфальною грацией прыгать.
Становись с каждым днем, с каждой ночью все современней,
не срывайся теперь никогда до истерик и рыка.
Будут белы белки, будут сухи глаза, не размазаны к утру ресницы,
будет тихо береза без свидетелей с кошками ерзать на крыше.
И не надо бояться сейчас, моя храбрая львица,
что любезные зрители вдруг что не нужно услышат.
Спринтер крепко дерет по пылящей немного дорожке.
Стаер трудно бежит (и ему пожелаем успеха).
Нам ответит атлет, после финиша будучи спрошен,
что немного устал, но ужасно мило побегал.
Я люблю и ты любишь касаться ступнями дороги.
Когда в горле комок, когда слезы от чистого ветра,
чтоб в зеленом пуху повернулась земля, покатилась под ноги,
за затылки ушла, а когда не хватит вдоха и света
там, где тени бредут и безвольно лежат как в пустыне
или жутко зевают от убийственной скуки песочной,
я узнаю тебя — спой тогда, пока солнце остынет,
что-нибудь побольнее, любовь, побессрочней.
…Мы куда собирались, где были, скажи, я запнулся,
и видишь — не помню,
кто над нами вздымал ослепительный обруч огромный,
кто нас вел сквозь огонь, а теперь каждый день убивает,
каждой ночью — кто мглой наши губы и мозг обливает.
Вечерами за нашими спинами топчется ясность.
Наши руки пусты. Наши взгляды почти безопасны.
Никого не смутим. С соглядатаем каждым поладим.
Убываем во тьму, на прощанье друг друга погладим.
Засыпай, засыпай. Пусть в счастье загнутся ресницы.
Лопнут клетки, сломаются прутья, пусть не верещат телефоны.
Спи фарфоровая, рыжегривая, летящая львица,
спи — беги, тебе хватит земного уклона.
IV
Постелен шагам тротуар.
Лишаются лица личин.
Твоя наступает пора —
театр одиноких мужчин.
В широких идут пиджаках
творцы пантомимы ночной,
у каждого в бледных руках
по розовой розе одной.
Вот скомканный нежный билет
на ежевечерний спектакль,
где щелкает, как пистолет,
любой незаметный пустяк,
и делает ранки в груди,
и мошкой юлит у виска,
поскольку у вас впереди
в фальшивых брильянтах тоска.
Она из кабины такси
выходит и руку подашь,
не важно красив-не красив —
центральный она персонаж,
и надо губами припасть
ей к пальчикам, сжать ее стан,
пока демонстрирует страсть
со страстью во мраке фонтан.
27 июля 79
V
Светает. Гаснут фонари.
Зажглась заря. У Моссовета
чугунный князь проговорил
слова чугунного привета.
Пред холодом грядущих дней
я голосов воды последних —
наследник — тень фонтанов летних —
литых любовников аллей.
Возможно, что меня тогда
фонтаны лета отогреют,
когда я забреду сюда
из января оранжереи.
14 июня 80
x x x
«Пока не требует поэта…»
У меня, извините, просроченный паспорт и насморк.
Я правитель событий в карманы распиханных наспех:
пирамидки монет, двух ключей от случайных убежищ;
я ваш грешный поэт, пододвиньте мне в блюдечке нежность.
Собираю явленья, картинки, скульптурки, виденья,
в две ресничных корзинки погружу ваш наряд и движенья,
и с добычей такой, бормоча небесам: слава Богу, —
я отправлюсь домой, то есть, я извиняюсь — в дорогу.
Я смотрю как молчишь, как печалишься, хмуришься, дышишь.
Распростимся, Париж, с этой башни глядеть бы на крыши…
Он лежал как брелок, как рука, его можно погладить.
Попадаю в рукав (никогда не видал тебя в платье).
Ты останешься здесь, на девятом, где бдит телевизор.
Ночи черная взвесь подымается с улицы, снизу.
До свиданья, дружок, до свиданья под траурным небом,
где желтеет кружок в простыне из прозрачного крепа.
Неподвижна зима, но снежок суетливый
обнимает за плечи дома, выстилает асфальт сиротливо,
и грохочут под черствой землей, в освещенных громадных подвалах,
обдавая тоской или запахом кислым вокзала,
пробиваясь сквозь ночь к поясам полуночных прохожих,
уносящие прочь поезда, как кортеж неотложек.
Перейти на страницу: