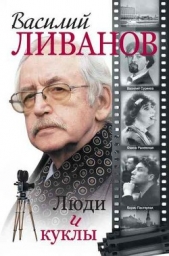Стихотворения. Избранная проза

Стихотворения. Избранная проза читать книгу онлайн
Имя Ивана Савина пользовалось огромной популярностью среди русских эмигрантов, покинувших Россию после революции и Гражданской войны. С потрясающей силой этот поэт и журналист, испытавший все ужасы братоубийственной бойни и умерший совсем молодым в Хельсинки, сумел передать трагедию своего поколения. Его очень ценили Бунин и Куприн, его стихи тысячи людей переписывали от руки. Материалы для книги были собраны во многих библиотеках и архивах России и Финляндии. Книга Ивана Савина будет интересна всем, кому дорога наша история и настоящая, пронзительная поэзия.
Это, неполная, к сожалению, электронная версия книги Ивана Савина "Всех убиенных помяни, Россия" (М.:Грифон, 2007). В разделе "Стихотворения" не хватает одного произведения. В разделе "Рассказы и очерки" - двух. Самое досадное, что отсутствует большая часть раздела "Публицистика" и частично "Приложение". Хочется надеяться, тем не менее, что и в таком варианте книга будет интересна читателю, и со временем будет дополнена недостающими на данный момент материалами.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
(«Руль» (Берлин) №1775, 3 октября 1926г.)
Ромашки
У нее такое странное имя – Айя. Пахнет оно чем-то страшно южным, горячими листьями пальм, душной пеной у берегов Таити, талантливым бредом Пьера Лоти.
А сама она – сероглазая фрекен в причудливом чепчике больничной сестры. Взгляд такой прозрачный, совсем северный, чуть-чуть темнеющий к вечеру. Говорит быстро, смешно наклоняя голову на бок. Смеется негромким колокольчиком.
Целый день суетится она в палате; мы все следим за ней и нам радостно – молодым и старым. Даже вон тот угрюмый, весь залитый желчью старик, что медленно угасает в углу, улыбается почти ласково, когда над ним взлетают розовые руки Айи, поправляя подушки или одеяло.
Я здесь недавно, и мне чуждо. С утра лежу на веранде, заставленной цветами. Их так много – ромашки, левкои, какие-то местные финские цветы с голубо-сиреневой головкой и длинными листьями, похожими на лапы ощетинившегося кота. Вижу широкий двор, весь в сочной траве, черные лысины скал, за скалами – зеленую поляну моря, исписанную белыми черточками пены. Соленый воздух ходит между колоннами, треплет ромашки, колышет занавески окон.
Мне чуждо. Перелистываю журнал на непонятном языке, вслушиваюсь в прыгающий придушенный говор за дверью, стараюсь понять непонятную, спокойную, не нашу жизнь…
Входит Айя с кувшином. Каждое утро и вечер она поливает цветы, любовно разглядывает их, не распустился ли новый? И вот в это время мы разговариваем. Я не знаю ни финского, ни шведского; ее кто-то выучил по-русски романс – «гай да тройка!», который она и поет в свободные минуты, безбожно перевирая слова, но у обоих нас есть небольшой запас немецких фраз.
Айя рассматривает кошачью лапу сиреневого цветка и спрашивает:
– У вас есть ромашки?
– Она всегда спрашивает о России, Россия ее страшно интересует: «Я не понимаю, сказала она мне вчера – удивительно, как можно любить страну, где люди такие злые?…»
– Есть, отвечаю я.
– Такие же белые и с золотыми сердечками?
– Да, с золотыми сердечками…
Айя недоверчиво качает головой и уходит в палату. Через несколько минут она возвращается с наполненным снова кувшином и наклоняется над рядом горшков с ромашками.
– У вас есть невеста?
Вопрос так неожидан, и глаза Айи так строго смотрят на меня, что я роняю журнал на пол.
– Была…
– Почему – была? Удивляется фрекен, и я чувствую как с ярких губ готов сорваться чуть– чуть лукавый, девичий упрек в неверности.
– Была, потому что ее, может быть… съели. На юге России такой голод, – говорю я, и шутка моя звучит так жестоко.
Айя сочувственно вздыхает.
– Покажите мне ее фотографию. Она хорошенькая? Ваши девушки все такие… как это сказать по-немецки… тощие…
– У меня нет фотографии…
– Нет? Странно… ну, прядь волос. Это всегда так делается.
– И волос нет. Ничего нет, – отвечаю я грустно. Я даже не знаю, где она сейчас, жива ли. Такая буря разбросала нас во все стороны…
Айя садится рядом со мной на скамью. Мне кажется, что в ее серых глазах вот-вот сверкнут слезы – чуткая сердечность говорит в каждом ее жесте.
– И ничего на память не осталось?
– Ромашка осталась… – невольно заражаясь сентиментальной грустью ее глаз, отвечаю я…
– Какая ромашка? – перебивает меня Айя.
– Сухая… белая с золотым сердечком…
– Фрекен… – зовет кто-то в палате.
Айя быстро срывается с места, хватает кувшин и идет к двери, говоря скороговоркой:
– Какие вы все сухие, тощие… как ромашка… И Россия ваша – ромашка, вся высохла. И вы сами, и невеста ваша, и все русские – ромашки сухие, больше ничего.
Опять сижу один на большой веранде. Смотрю на седую, почему-то такую неприятную голову Ллойд-Джоржа в прошлогоднем журнале и думаю: как много неожиданной правды в простых словах простой девушки! Сухие ромашки мы… Россия – вся высохла… Жалкие, никому не нужные цветы… Мы – для гербария, для странной и страшной коллекции: цветы с высохших полей… Люди без Родины… А соленый ветер ходит между колоннами, треплет занавески, шепчет в уши нежно: … Уже недолго… недолго… Может быть, год, может быть, месяц… На безгранной поляне России гуще, сильнее и ярче прежнего зацветут ромашки… Белые-белые… С золотыми, гневными, прозревшими сердцами…
Уже недолго.
(«Русские вести». Гельсингфорс. № 131, 23.11.1922)
Моему внуку. Завещание.
Я не знаю, каким ты будешь: смуглым или золотоволосым, скрытным, с деланным равнодушием серых глаз, или с глазами синими и душой открытой, как кусочек весеннего неба в тяжелом полотне туч, жестоко ли заколотишь себя в дымком склепе кабинета, или, махнув на все рукой, беспечной на чины, ранги и ордена, до заката своих дней просмеешься на чердаках богемы.
Я даже не знаю, будешь ли ты вообще.
Как приподнять завесу будущего? Уже из этого факта ты, сын моего несуществующего сына, можешь заключить, каким безнадежным мечтателем был твой странный дед.
Иногда, вот и сегодня, мне кажется, что ты весь будешь в бабку, тоже еще пока находящуюся в проекции: чуть-чуть нелогичный, с пухлыми пальцами и сердцем тоже пухлым, вечно ребячьим. В детстве будешь часто плакать крупными горошинами слез и любить бутерброды «в три этажа». Потом вытянешься, закуришь потихоньку, в промежутках между излучениями семнадцати наук, будешь бить головой футбольный мяч или мячом голову, скажешь какой-нибудь девочке, играющей в девушку: «Я вас люблю» – и радостно подумаешь: «Я совсем взрослый»… Потом… Вот по поводу этого «потом» я и хочу поговорить с тобой, мой милый внук.
В самом деле, что будет потом? Это так просто: тебе раза два изменит любимая женщина и раза три не заплатит по векселям лучший друг, и ты попробуешь приставить к виску нехорошую штуку, которая у нас называется револьвером. Или для переселения в иной мир у вас будут выдуманы особые радиоволны?
Пусть так. Пытаясь прожечь себя радиоволной, ты обязательно подумаешь, что жить не стоит, а если будет в тебе особый род недуга — неравнодушие к цитатам, то и скажешь не без трагизма: «… А жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, такая пустая и глупая шутка»…
Вот тогда то и вспомни совет деда: жизнь беспредельно хороша! Брось радиоволны, радиояды… Самая прелестная в мире женщина и самый большой на свете вексель — микроскопические песчинки в сравнении с огромной радостью жизни. Дышишь ли ты сейчас пылью сенатского решения за 1963 год или дешевой пудрой какой-нибудь остроглазой Зизи, — и в пыли архива и в пудре твоей случайной подруги, пахнет тем, что безгранично выше минутных горестей и разочарований — Жизнью.
Не комкай же ее, не проклинай, не рви.
Мы, то есть все те, кто отошел уже в вечность — сходи сегодня ко мне на могилу и принеси цветов (только не красных) мы всю свою жизнь ныли. Смешно сказать: пережарит ли кухарка жаркое, падут ли акции какого-либо банка случайно купленные и полузабытые, немного суше, чем обычно, поздоровается «она» — мы неизменно ворчали:
– Ну и жизнь! Вот бы кто-нибудь перевернул ее вверх дном!
Теперь ее перевернули. Кажется, надолго. Десятый год, мировые акробаты, стоим у края черной бездны, бывшей когда-то Россией. И только теперь, только блестя налитыми кровью глазами, мы поняли, наконец, что «ну и жизнь» была настоящей жизнью, что мы сами превратили ее в скачку с препятствиями на сомнительный приз, пробили голову нашему прошлому, выкололи глаза у будущего, оклеветали самих себя.
Еще в школе, ты читал в учебнике истории, что вторую русскую революцию — некоторые называют ее великой — подготовили социальные противоречия и сделали распустившиеся в тылу солдаты Петербургского гарнизона. Не верь! Революцию сделали и подготовили мы. Революцию сделали кавалеры ордена Анны третьей степени, мечтавшие о второй;