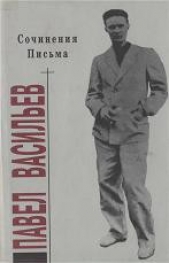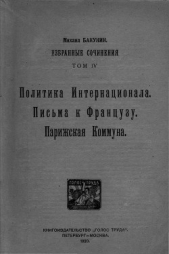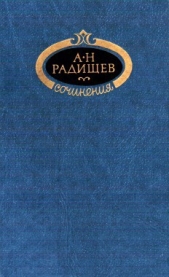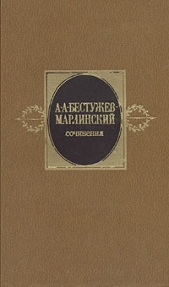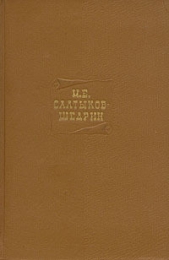На красных досках
Божьи лики
Верхненарымских мастеров:
Божьей матери
Соболья, тонкая бровь,
Ангелы
В зарослях ежевики.
И средь всего
В канареечном свете,
С иртышской зарей
Вокруг башки,
В белых кудрях,
Нахмурен и светел,
Крутя одеж
Многоверстный ветер
И ногу в башмачные ремешки,
Босую, грозную,
Вставив, что в стремя,
Расселся
Владетель неба и земи.
И, полные муки святой,
Облак мешки валялись.
Как мельник,
Бог придавил их голой пятой —
Хозяин, владеющий нераздельно.
Он мукомолом в мучной пыли
Вертел жернова в скиту под Яманью,
И люди к нему, как овцы, текли
Хоть полпуда выклянчить за покаянье.
Он мельник.
В мучной столбовой пыли
Стерег свою выручку под Яманью.
Его на трех таратайках везли,
Чтоб въехал пожить в избу атаманью.
И лучший
Из паствы его смиренной
Крестился на стремя его ремней,
И шел от дверей на него поклонно
В грехах и постах Раб Евстигней.
Он верил в него Без отвода глаз,
Воздвиг из икон Резные заборы.
И вот наступил для обоих час
Последнего,
Краткого
Разговора.
И раб,
Молитву горя сотворить,
Моргнул
На несопричастных и лишних,
И домочадцы на цыпочках вышли,
Двери наглухо притворив.
Тогда Евстигней лампаду зажег,
Темную осветил позолоту.
Пал на колени,
На пол лег,
Снова встал
И начал работать.
Пол от молитвы
Гудел, как гроб.
— Каюсь,
Осподи,
Каюсь. —
Бил, покрывая ссадиной лоб,
Падая тяжко
И подымаясь.
И когда
Тяжелая его голова
Закрыла глаза,
В темень-тревогу,
Тихо
Вознес Евстигней слова
Господу своему,
Единому богу.
Он прорывался,
Потный, живой,
Зреть сквозь заоблачные туманы.
Он не утаивал ничего —
Порченых девок, греха, обману:
«Тыщу свечей спалил тебе,
Стлался перед тобой рогожей.
Сам себя в темной своей избе
Свечой подпалю,
Вседержитель боже.
Мы без тебя
Понапрасну биты.
Дланью коснись
Моей нищеты.
Ищу, твой раб,
У тебя защиты, —
Господи,
Спаси
Мои животы».
Но тлели углем золотым образа.
Дородно, розово божье обличье.
Бог, выкатив голубые свои глаза,
Глядел на мир подвластный
По-бычьи.
Господи, неужто ж
Моленья мало,
Обиды мало?
Но Евстигней
Не оканчивал слов —
Долгим дождем
По вискам стучала
Кровь его прадедов —
Прыгунов и хлыстов.
И вставали щетиной
Леса Тобола
Да пчелиные скиты
Алтайских мест —
Скопидомы, оказники и хлебосолы
Поднимали тяжелый
Двуперстный крест.
И еще раз раб поднялся к богу,
В сердце сомнения истребя:
«Господи,
Ты ли сеешь тревогу,
Господи, рушишь веру в тебя».
И внял.
Из облачного вертограда
Погнал кудрей своих табуны,
И, зашипев,
Погасла лампада
От крепкой и злой
Божьей слюны.
Сидел развалившись,
Губ не кривя,
Голой пятой облака давя.
Не было дела ему до земли.
И наплевать ему, что колхозы
К горлу кулацкому
Подошли…
Он притворялся, сытен и розов,
Будто не слышит…
«Какой ты бог,
Язви!..
Когда мы, как зерна в ступе,
Бьемся, в бараний скручены рог,
Ты через свой иконный порог
Шагу не сделаешь, не переступишь!»
Сидел развалившись,
Губ не кривя,
Грозной ногой
Облака давя.
Да в ответ Евстигней говорил:
«Постой!
Смеешься, мужик. Ну что же, посмейся».
Рванул на мороз,
Косматый, крутой,
Дверь настежь —
И стал собирать семейство.
Встал босой
На снег тяжело.
Злоба крутила
На шее жилы.
…В круглых парах семейство вошло
Хмурое,
Господа окружило.
Огни зажгли.
И в красных огнях
Пойманный бог шевелился еле —
Косыми тенями
Прыгал страх
На скулах его,
И глаза тускнели.
— Вот он, —
Хозяин сказал, —
Расселся,
Столько хваленый,
Моленый тут.
Мы ль от всего
Не верили
Сердца!..
— Мы ль перед ним не сгибали плечи?
Почто же пошел он на наш уют?
Сменял человеков своих на свечи?..
И тогда Евстигней колун вынул,
Долго лежавший у него в головах,
И пошел, натужив плечи и спину,
К богу —
На кривых могучих ногах.
Загудел колун,
Не ведавший страху,
Приготовясь пробовать
Божьей крови.
Дал ему хозяин
Сажень размаху,
Дал ему еще
На четверть размаху,
И —
Осподи, благослови!
Облако, крутясь и визжа, мелькнуло,
Ангелы зашикали:
— Ась… Ась… Ась… —
Треснули тяжелые божьи скулы,
Выкатилась челюсть вперед, смеясь.
Бабка, закричав в тоске окаянной,
Птицей стала.
Сальник, вспыхнув, погас.
И пред Евстигнеем,
Трясясь, деревянный
Рухнул на колени иконостас.