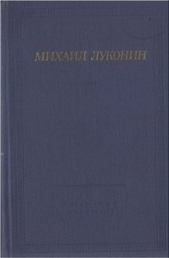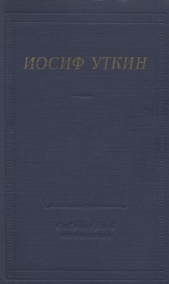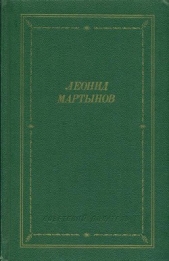Памяти пехотинца Христиана Грумбейна, родившегося 11 апреля 1897 года, умершего в страстную Пятницу 1918 года, в Карасине (на юге России).
Мир праху его. Он выдержал до конца.
Когда засияет моя звезда
И славы настанет эра,
И друг у друга начнут города
Меня отбивать, как Гомера.
И в Польше моих монументов число,
Как в дождик грибов, расплодится,
И каждое будет вопить село:
«Он только у нас мог родиться!» —
Так, чтобы не вздумали вздор молоть
Потомки «по делу Тувима»,
Я сам заявляю: «Гнездо мое — Лодзь,
Да, Лодзь — мой город родимый».
Другие пусть славят Сорренто и Рим
Иль Ганга красоты лелеют,
А я заявляю: мне лодзинский дым,
И копоть всех красок милее.
Там, чуть от земли головенку подняв,
Я рвал башмаки и штанишки,
И мой воспитатель, свой жребий прокляв,
Кричал мне: «Ленивый мальчишка!»
И там похитило сердце мое
Одно неземное созданье:
Сем лет белокурые косы ее
Вплетал я в стихи и посланья.
Там худшие из стихов моих
Признали без проволочки,
И некий Ксьонжек печатал их
По две копейки за строчку.
Тебя я люблю в безобразье твоем,
Как мать недобрую дети,
Мне дорог твой каждый облезлый дом,
Прекраснейший город на свете.
Да, грязных заулков твоих толкотня
И смрадная пыль базаров
Приятнее многих столиц для меня,
Милее парижских бульваров.
И чем-то волнуют меня до слез
Слепота твоих окон голых,
И улиц твоих коммерческих лоск,
И роскошь с грязным подолом,
И даже дурацкий отель «Савой»,
Разносчики и торговки,
И вечная надпись: «Мужской портной,
Мадам и перелицовки».
Улови этот миг, этот миг несказанный.
Он нисходит обычно порой предвечерней
На воскресные улицы. Вздрогнешь нежданно,
И душа отзывается болью безмерной.
Ты увидишь людей в нищете неизбежной,
Непокой тишины, боль прощаний печальных,
И наполнится сердце усталостью нежной,
Гефсиманскою скорбью садов госпитальных.
…Бьется хриплый звонок одинокою нотой…
Смотрят гнезда пустые с ветвей почернелых.
Вдовье горе… приютские дети-сироты.
Кто-то в крепе уродливый… Дом престарелых.
Ощути этот миг… Люди ищут уюта.
Город чист и безлюден… напев невеселый
Где-то слышится… И затоскуешь ты, будто
Ученик, уходящий последним из школы.
Нарядился. Нынче годовщина.
Желтые ботинки, галстук броский.
Фрак, хранящий запах нафталина,
Воротник из гуттаперчи, ноский.
В зеркало себя обозревая —
Шею жирную, глаза свиные, —
Шепчет: «Польша! La земля родная!
Но и ты, о Франция… Hex жие!»
Для НЕГО сей праздник. Баррикады…
Исступленье… ярость… кровь народа…
Над Парижем — пушек канонада…
И над Францией — заря свободы!..
Для НЕГО сей праздник. Будет важно
Он нести мясоторговцев знамя.
В клубе вечерком — крикун присяжный —
«Вив ля Франс!» — он рявкнет меж речами.
Марсельезу, глазки растараща
Запоет со знатью цеховою
И, махая флагом, мысль обрящет:
«Франция! L’отечество второе!»
Он, мясник почтенный, в честь свободы
С глаз смахнет две-три слезинки кстати…
Мнит себя спасителем народа —
Галлеров, Корфантов друг-приятель.
Но однажды, выйдя в праздник снова,
Не появится к обеду дома…
Ты восстанешь, Франция, грозово,
Извергая молнии и громы.
Ты его настигнешь! Пламя гнева!
Ярость улиц! Мятежа раскаты!
Амазонка! Огненная дева!
Бич возмездья! Грозная расплата!
В белом доме обитаю,
Где зеленые окошки
И лиловые сережки
У дорожки.
Мне на солнце так приятно
Греться, лежа под забором,
А потом гулять вдоль сада —
От каштана до ограды
И обратно.
Много птиц здесь голосистых,
Не встречаются здесь люди,
И меня под утро будит
Птичий свист в кустах росистых.
Я нисколько не скучаю.
Ем охотно, сплю недурно.
На ночь Пруса я читаю,
К сельской жизни привыкаю.
Лишь в ночи, когда над нами
Бог созвездья рассыпает
И блестящими гвоздями
В мир кидает, как камнями,
И в смятенье нас ввергает
Движущимися огнями, —
Мною вдруг завладевает
Хаос древний, хаос черный.
Под бичом господних взоров
Долг вершить иду покорно.
И во сне я, как химера
С волчьей мордой, взглядом волчьим, —
За самим собою, спящим,
Всю-то ночь слежу сторожко
В этом белом тихом доме,
Где зеленые окошки
И лиловые сережки
У дорожки.