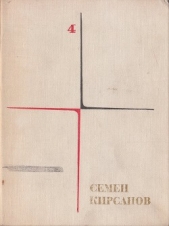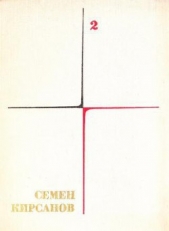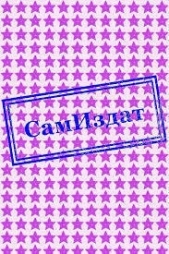Молодой головой русея,
над страницей стихов склонясь,
был Асеев, и будет Асеев
дверь держать открытой для нас.
Мне приснится, и прояснится,
и сверкнет отраженным днем —
на дарьяльскую щель Мясницкой
этот сверху глядящий дом.
Я взбегал по крутейшей лестнице
мимо примусов и перин
на девятый этаж, где свеситься
было страшно, держась перил.
У обрыва лестничной пропасти
был на двери фанерный лист,
на котором крупные подписи
открывавших ту дверь вились.
Я о том расскажу при случае,
а за подписями щита —
знаменитые строки слушали,
знаменитые — шли читать.
Был Каменский, два пальца свиста
он закладывал в рот стиха,
был творец «Лейтенанта Шмидта»,
и — чего уж таить греха —
за фанерой дверного ребуса,
на партнера кося глаза, —
с Маяковским Асеев резался,
выходя на него с туза.
Королями четырехкратными
отбиваясь с широких плеч,
Маяковский острил за картами
(чтоб Коляду от карт отвлечь),
Но Коляда лишь губы вытянет
и, на друга чуть-чуть косясь, —
вдруг из веера даму вытянет
и на стол — козырей пасьянс!
Вот ночные птицы закаркали,
вот каемка зари легла…
Только ночь не всегда за картами,
не всегда здесь велась игра.
Стекла вздрагивали от баса,
под ногами дрожал паркет,
так читался «Советский паспорт» —
аж до трещин на потолке.
Над плакатами майских шествий
в круглом почерке воскресал
и всходил на помост Чернышевский,
мчались сани синих гусар.
Если только тех лет коснуться —
выплывают из-под строки
мейерхольдовские конструкции,
моссельпромовские ларьки;
тень «Потемкина» на экране,
башня Татлина — в чертеже,
и Республики воздух ранний,
пограничник настороже…
И еще не роман, не повесть
здесь отлеживались на листе,
а буденновской песни посвист
из окна вырывался в степь,
и казаки неслись усатые
под асеевский пересвист!..
Это годы неслись двадцатые,
это наши стихи неслись.
Еще много войн провоюется,
и придет им пора стихать,
но позвавшая нас Революция
никогда не стихнет в стихах!
И ни тления им, ни пепла,
ни забвенья — они звучат
и вытаскивают из пекла
обожженных войной внучат.
Потому что, когда железная
лапа смерти стучится к нам, —
в наше место встает поэзия,
с перекличкою по рядам.
Мы не урны, и мы не плиты,
мы страницы страны, где мы
для взволнованных глаз открыты
за незапертыми дверьми.