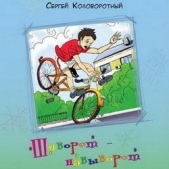Освящение мига

Освящение мига читать книгу онлайн
Эта книга — для читателя, готового встретиться с еще одним всемирным латиноамериканцем без экзотики, патриотом без почвенничества, полагающим, что только уровень мышления обеспечивает искусству национальное и всякое прочее достоинство. Книга без читателя на существует. Октавио Пас, как и Борхес, не уставал повторять, что писатель и читатель — два мига одной и той же операции, что ни одно произведение искусства ничего не говорит вообще и всем, но что всякое произведение — это потенциальное высказывание, обретающее свое значение только под читательским взором.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Как бьющий из-под земли родник, как набегающая на берег волна, мир полнится всем. На все можно посмотреть, прикоснуться, пощупать. Бытие и явление совпадают. Все открыто, все здесь, все лучится и полнится собой. Прилив бытия. Подхваченный волной бытия, я приближаюсь к тебе, прикасаюсь к твоей груди, погружаюсь в твой взор. Мир исчезает. Нет никого и ничего: вещи, их названия, числа и знаки падают к нашим ногам. Мы освободились от словесных одеяний. Мы позабыли собственные имена, и я и ты уже неразличимы. Мы возносимся и падаем, схватившись за себя, а имена и вещи пролетают мимо, теряясь в неразличимой дали. Вверх и вниз по течению уплывает твое лицо. Явленный мир теряет устойчивость, переливаясь за край. Тела утрачивают очертания. Бытие поспешает в ничто. Бытие и есть ничто. Ничто — это бытие. Открываю глаза: чужой мир. Бытие спряталось, и я снова среди кажимостей. В такие мгновения рождается отчаянный, мучительный вопрос: так что же там, за этой чужедальной оболочкой? В этом вопросе вся тщетность любви, потому что за тем, что нам явилось, ничего нет, но за этим явившимся нам ничто встает бытие.
Любовь впадает в смерть, и эта смерть нас возрождает. «Женщина, — говорит Мачадо, — лицо бытия». Это чистая явленность, в женщине выявляется, проступает бытие. И она же прячет его от нас. И оттого любовь — это одновременно открытие и бытия, и ничто. Нам не дано смотреть на это со стороны, это не театральное представление, это что-то такое, в чем мы участвуем, самоосуществляясь, ведь любовь — творение бытия. И это бытие — наше бытие. Мы самоуничтожаемся, творя себя, и творимся, самоуничтожаясь.
Та же двойственность характерна и для наших отношений с природой. Удивление, смешанное с отчуждением, — вот что мы ощущаем при встрече с морем, горой, глухим лесом и простирающейся у наших ног долиной. Мы чувствуем, что мы другие. Мир природы нам чужероден, он живет по своим законам. Его отстраненность быстро перерастает во враждебность. Ветви деревьев говорят на языке, который нам непонятен, в чаще нас выслеживают чьи-то глаза. Неведомые твари угрожают нам и потешаются над нами. Но может быть и по-другому: природа замыкается в себе, море бесстрастно шумит волнами, скалы становятся все тверже и непроницаемее, пустыни — бескрайнее и глуше. Мы — ничто перед этим огромным, замкнутым в себе миром. Но если нас не охватывает панический страх, ощущение себя ничто сменяется противоположным ощущением: ритмическая поступь волн постепенно прилаживается к пульсации нашей собственной крови, молчание каменных глыб становится нашим собственным молчанием, путешествие в песчаной пустыне превращается в путешествие в зыбучих песках нашего бескрайнего сознания, да и шум деревьев — это тоже что-то похожее на нас самих. Мы все — часть целого. Бытие всплывает из ничто. Мы движемся в едином ритме, и нас объемлет единое молчание. И даже предметы оживают, и, как прекрасно говорит японский поэт Бусон {133}:
В такие мгновения и постигается целостность бытия. Все в покое и в движении. Смерть не где-то там, она самым непостижимым образом оказывается жизнью. Попавший в ничто человек, отталкиваясь от него, творит себя.
Поэтический опыт — опыт открытия нашего исконного удела. И это открытие всегда выливается в творчество, в акт творения самих себя. Ведь открывается нам не что-то постороннее и чуждое, открытие есть вместе с тем и созидание того, что будет открыто, — нашего собственного бытия. И в этом смысле действительно можно сказать, не рискуя впасть в противоречие, — поэт творит бытие. Потому что бытие — это не данность, это не что-то, на что можно опереться, это что-то созидающееся. Бытию не на что опираться, потому что его опора — ничто. Вот и остается ухватиться за себя самих, каждый миг себя творя. Наше бытие — это только возможность бытия. Бытию ничего не остается, как сбываться. Исконная недостаточность как раз и побуждает его твориться с такой полнотой и богатством. Человек — воплощенная ущербность бытия, но вместе с тем он — завоевание бытия. Ведь он призван творить бытие, наименовывая его. Человеческий удел — мочь быть, и в этом мощь его удела. В итоге же наш исконный удел составляют не ущербность, не полнота, но возможность. Смысл человеческой свободы в том, что человек — всегда возможность. Реализовать возможность и значит сбыться, сотворить себя. Поэт выявляет человека, творя его. Между «рождаться» и «умирать» пролегает «существовать», и пусть это существование безнадежно и одиноко, оно дает возможность завоевать наше собственное бытие. Всем рожденным дано это понять, а стало быть, дано превзойти собственный удел, ибо удел нуждается в том, чтобы его превосходили, и, только превосходя самих себя, мы и живем. Поэзия свидетельствует, что быть смертным — только один из ликов нашего удела. Другой — быть живущим. «Рождаться» содержит в себе «умирать». Но «рождаться» перестает быть синонимом ущербности и приговора, как только мы перестаем воспринимать жизнь и смерть как разные вещи. Таков последний смысл поэтического творчества.
Между рождением и смертью — утверждает поэзия — лежит возможность, возможность не вечной жизни, которой учит любая религия, и не вечной смерти, о которой говорит любая философия, но такое «жить», которое предполагает и содержит в себе «умирать». Возможность бытия дается всем. Поэтическое творчество — одна из форм такой возможности. Поэзия утверждает, что человеческая жизнь — это не «приготовление к смерти», по Монтеню {134}, и не «бытие к смерти» из экзистенциального анализа. Человеческое существование таит в себе возможность возвышения над собственным уделом, примирения противоположности жизни и смерти. Ницше говорил о том, что греки придумали трагедию, потому что были слишком здоровы. Так оно и есть. Только народ, живущий полной и напряженной жизнью, может быть трагическим народом, потому что жить со всей полнотой и значит жить смертью. Именно это состояние описывает Бретон {135}, говоря, что «жизнь и смерть, реальное и воображаемое, прошлое и будущее, доступное и непередаваемое, высокое и низкое перестают восприниматься как разные вещи, это состояние не имеет отношения к вечной жизни, к какому-то потустороннему и вневременному там». Оно во времени. Человек призван быть всеми теми разными вещами, которые его составляют. Он может быть ими всеми, потому что они от рождения в нем, он есть они. Сбываясь, он сам становится другим. Другими. Выявить, воплотить этих других — задача человека и поэта. Поэзия не дает вечной жизни, но через нее нам просвечивает то, что Ницше называл «несравненной жизненностью жизни». Поэтическое переживание открывает источники бытия. Всего только миг — и навсегда. Всего только миг — и никогда. Миг, в котором мы — то, чем были и чем будем. И рождение и смерть — всего лишь миг. И в этот миг мы сами — и жизнь и смерть, и то и это.
Поэтическое слово и слово религиозное на протяжении истории не раз пересекались и совпадали. И однако религиозное откровение — во всяком случае, в той мере, в какой оно слово, — это интерпретация изначального события, а не само событие. Что же касается поэзии, она, напротив, выявляет человеческий удел и творит человека образом. Поэтический язык выявляет парадоксальную человеческую природу, его «инакость», побуждая человека стать тем, что он есть. Не священные писания обосновывают человека, ведь они сами держатся на поэтическом слове. Деяние, посредством которого человек обосновывается и выявляется, — поэзия. У религиозного и поэтического опыта общие корни, их исторические выражения — поэмы, мифы, молитвы, гимны, заклинания, театральные представления, ритуалы и т. д. — часто трудно различить. Ведь и то и другое — все это в конечном счете опыт нашей сущностной «инакости». Но религия истолковывает, классифицирует и систематизирует вдохновение внутри теологической доктрины, а Церковь конфискует плоды этого вдохновения. Между тем поэзия открывает кроющуюся во всяком рождении возможность быть, пересотворяя человека, понуждая его избрать свой истинный удел. И он выбирает не «или — или», или жизнь, или смерть, но целостность жизни и смерти в едином раскаленном миге бытия.