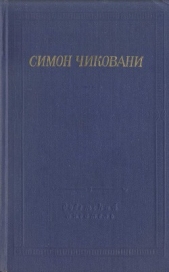Земля, осыпавшись над шумною водою,
Ползет и крошится туда, где целый день
Играет волнами под самою скалою
Бескрайний блеск огней, морская светотень.
Она приходит в стих тревожным, буйным шумом
Забытых образов, предчувствий и примет,
И вот уж нет конца твоим тревожным думам,
И в одиночестве тебе покоя нет.
Тут море лишь и ты, тут только ритм и тени,
Живой гекзаметр воли, молчанье берегов.
А всё вокруг кричит, всё ищет воплощений,
Всё жаждет образов, всё просит форм и слов.
Ты напряженно ждешь, когда, бушуя снова,
Внезапный шквал стиха на душу налетит
И принесет с собой чудесный запах слова,
И непокорства пыл, и соль былых обид.
Ты не удержишь стих, когда он рвется с гневом,
Как не излечат боль пылающей души
Ни острословие, ни клятвы юным девам,
Ни вздохи страстные гаремного паши.
Пускай когда-нибудь из шепота «Ekskuz’ы» [61]
Поймут твои друзья, что, посланы судьбой,
Одни эринии, а не подруги-музы
В час одиночества владели здесь тобой.
Владели здесь тобой над морем вод свинцовым,
Над шумом черных бездн, в тот одинокий час,
Когда ты был таким, каким ты был, — суровым
Предтечей вещих дел, прославленных не раз.
Перевод Н. Заболоцкого
Здесь душно и дымно, туманная зала
Пропахла духами. В мерцании свеч
Гостей разномастных толпа замелькала,
И слышится разноязыкая речь.
Вот санктпетербуржец пред нежною пани
Галантно склонил напомаженный кок;
Вот шляхтич проходит в нарядном жупане,
Наполнив гостиную скрипом сапог.
К нему обратились по-польски — ни слова,
Ведь пан говорить по-французски привык.
Звучит здесь российский и эллинский говор,
Им вторит грузинский гортанный язык.
Певуч украинский язык старожила —
Потомка свободных степных козаков…
Адам утомился от всех языков,
Он слушает ночь, опершись о перила,
И отзвуки слов
Из залы летят, далеки и знакомы:
«Хиосский погром… Наварин… Ибрагим…»
То греки под кровлею польского дома
И спорят и стонут над горем своим.
Знакомы Адаму их споры и свары,
Но нет — не об этом он думает, нет!
Лишь меч Миссолунги, на Кипре пожары,
Лишь камни Афинские видит поэт, [62]
Лишь подвиг народа, чью славу не может
Принизить никто и никто запятнать,
Хоть медлят вожди, презирает вельможа,
Изменник продался, бесчинствует тать…
Пора расходиться, кончали б скорее!
Но новые гости — в раскрытых дверях,—
Недавно прибывший корсар из Морей
В уборе фригийском на рыжих кудрях,
За ним, озираясь пугливо в прихожей,
Арап, темнолицый парнишка, стоит.
«Взгляните, невольник со мной, чернокожий».
— «Весьма миловиден! У турок отбит?..»
Хозяйскую речь перебивши нежданно,
Поэт обернулся, он сух и суров:
«Прощенья прошу у вельможного пана,
Позвольте мне высказать несколько слов.
Вы, сударь приезжий, ведь были в Элладе?
Вы гнет испытали, всю тяжесть его,
Вы жизнью готовы пожертвовать ради
Свободы отечества своего,—
Но вами лишен негритенок свободы —
Несчастный мальчишка, сей жалкий трофей!
Не могут свободными зваться народы,
Рабами зовущие прочих людей…»
Молчанье. Корсар, уязвленный обидой,
Казалось, поэта готов растерзать.
Мицкевич небрежно, волненья не выдав,
Откинул со лба темно-русую прядь:
«О пани хозяйка, мы вас не слыхали,
Пускай вам сегодня милей тишина,
Но черная с белым дорожка рояля
Так грустно блестит, так безмолвна она,—
Пускай же скорей оживет, зарокочет,
Как слов быстрина, как грохочущий вал,
Ведь слово не может умолкнуть, не хочет,
Хотя бы поэт онеметь пожелал.
А я… я себе замолчать не позволю.
Хочу, чтоб слыхала с тревогой толпа
О веке своем, о невольничьей доле,
Хочу, чтоб услышал владелец раба!
Под пальмовой сенью я хижину вижу,
Она и похожа на наши, и нет,
В краю, где беда, где болотная жижа,
Затерян пространства и времени след.
Там в вечность, как волны, бегут поколенья,
Сменяясь, как поросли в поле пустом.
И вот чернокожее божье творенье
Наполнило плачем продымленный дом.
Случилось с ним то, что от века случалось:
Побои жестокие, жажда и боль.
Там к женщине черной дитя прижималось,
И матери пот — его первая соль.
Ты часто болел, голодал ты не реже,—
О детстве несладком и вспомнить не рад.
Однажды во мраке пристал к побережью
Искатель наживы — заморский фрегат.
Жилье запылало, повеяло гарью.
Где мать? Где отец? — только огненный шквал.
Турецкий купец на алжирском базаре
Гроши за худого звереныша дал.
Невольником стал, ты в неволе поныне,
Ведь тот, кто сорвал оттоманский замок,
Кто рушит султанского рабства твердыни,
Опять заковать в кандалы тебя смог…»
Пришлось говорить по-французски поэту.
Всё понял корсар. Он молчал, побледнев,
То плащ теребил, то тянулся к стилету,
С трудом подавляя вскипающий гнев.
Мицкевич стоял неподвижно и прямо.
И тут, растолкав изумленных гостей,
Приблизился грек, поклонился Адаму
И руку ему протянул…
Перевод А. Ревича