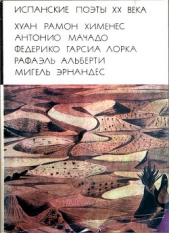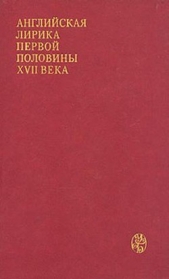Снова поезд, снова дорога.
(Третий класс, как всегда,
жестковато — ну что ж, не беда.)
Багажа у меня немного.
По ночам не тянет ко сну,
порой лишь слегка вздремну.
А днем я считаю мосты,
пробегающие кусты,
сна — ни в одном глазу.
Еду и радость с собой везу.
Уезжать… это счастье ни с чем не сравнимо,
Лондон, Мадрид — все города хороши,
если ты проезжаешь мимо,
а приедешь — и ничего для души.
Мечты и дорога… Сизый дымок…
Не от дыма ли в горле комок?
Раньше все было иначе —
путешествовали на кляче.
А осел? — Понятливей нет скотинки —
знает все камушки, все тропинки.
Платформы, пути, города…
Куда мы все едем? и приедем — куда?..
Монахиня против меня — до чего же красива!
На диво!
…Ты, страдая, к надежде пришла
и обрела
эту тихую ясность чела.
На тебя снизошла благодать,
ты вручила душу и тело
господу, ибо не захотела
матерью грешников стать.
Но ты неизменно
по-матерински нежна,
так будь же благословенна,
девственная жена!
Я любуюсь дивным лицом
под полотняным чепцом.
Щеки — желтые лилии —
когда-то алыми были,
но цветенью вослед
пламя тебя обожгло,
и теперь, пылая светло,
ты — свет, негасимый свет…
Если бы всем прекрасным девицам,
подобно тебе, захотелось укрыться
за монастырской стеной!..
А невеста моя — о, жалость! —
рассталась со мной
и с сыном цирюльника обвенчалась.
Дорога, дорога… Равномерно и четко
колеса стучат и скрипят тормоза.
У паровоза кашель — открылась чахотка.
В небе зарницы — видно, будет гроза.
I
Суровая сорийская земля.
Как бы в раздумье, по пригоркам серым,
лугам уже зеленым и холмам,
по голым сьеррам
весна проходит, маргаритки
в траву роняя.
Земля не оживает, спят поля.
Апрель, а все еще спина Монкайо {50}
покрыта снегом.
Прохожий шарфом прикрывает рот,
и, в длинный плащ завернутый, с собакой,
пастух за стадом медленно бредет.
II
Вот пашни лоскутками бурой шерсти,
сад, пчельник; между пепельных утесов,
на клочьях темной зелени белея,
пасется стадо мериносов.
Все это на Аркадию похоже
из снов, какие в детстве снятся.
Вдали, на придорожных тополях,
негибкие еще, как бы курятся
зеленым паром ветки — это листья.
А по краям и склонам балок
оделась белым цветом ежевика,
и голубеют крапинки фиалок.
III
Холмисто поле, и дороги
неторопливых путников скрывают;
лишь вдалеке на серых мулах
фигурки их плебейские всплывают
под тучами и пятнами ложатся
на золотистый холст заката.
Но если поглядеть вокруг с горы,
со скал, где в гнездах прячутся орлята, —
там, под обвалом стали и кармина,
на серебре долин свинец холмов,
и все обрамлено лиловой сьеррой
под шапкой розовеющих снегов.
IV
На сумеречном небе силуэты…
Начало осени. В одной упряжке
два медленных вола бредут по склону
холма; их головы, черны и тяжки,
пригнулись под ярмом. Между их шей
сплетенная из тростника и дрока
корзина — колыбель младенца.
За упряжью, склонившись одиноко,
идет крестьянин, а за ним жена
в распахнутые борозды бросает
отсвечивающие семена.
Под тучей, глыбящейся, пламенея,
в зеленом сумраке заката, тени
становятся все у́же и длиннее.
V
Снег. Дверь трактира приоткрыта в поле.
За нею видно пламя очага
и котелок, где закипает олья.
А над полями все метет пурга.
Январский ветер, злобный и унылый,
пытается скрутить в бараний рог
снег, падающий, словно на могилу,
на белизну равнины и дорог.
Седой старик, покашливая глухо
и сгорбившись, сидит перед огнем.
Порой вздыхая, сучит шерсть старуха,
с ней рядом внучка занята шитьем.
Был сын у стариков, пастух; пустился
он в дальний путь однажды, да в пургу
ночной порой с тропы, наверно, сбился,
и сьерра погребла его в снегу.
У очага пустует табуретка.
Лоб старика в морщинах — как кора
древесная, — а меж бровей отметка,
похожая на след от топора.
Старуха смотрит в поле, словно сына
заслышав приближающийся шаг.
Но и дорога и поля пустынны.
Метель не унимается никак.
А девочка, обкусывая нитки,
перед собой вдруг видит вешний луг:
гудят шмели, белеют маргаритки
и слышен щебет птиц и смех подруг.
VI
Сория, где зимы хмуры,
голова Эстремадуры.
Над Дуэро спят старинной
серой крепости руины.
Город с ветхими стенами,
с почерневшими домами!
Мертвый город феодалов,
егерей, солдат, порталов
со щитами,
ста фамилий благородных;
город тощих и голодных
псов с поджатыми хвостами,
что снуют по закоулкам
сонным,
а ночами вторят гулким
завыванием воронам.
Вот часы на консистории
бьют. И снова ночь безгласна.
Дочь земли кастильской, Сория,
под луной ты так прекрасна!
VII
Посеребренные холмы,
лиловый скальник, пепельные глыбы,
через которые Дуэро чертит
свои лукообразные изгибы,
плешины сьерры, белые дороги,
дубы нагие, тополя в низине,
вдоль побережья, вечера земли
воинственной и сокровенной, ныне
вы — грусть моя, которая и есть
любовь, вы у меня в груди, поля
сорийские, где скал не перечесть,
где словно спят в преддверии зимы
утесов пепельные глыбы,
посеребренные холмы.
VIII
Вновь в золоте я вижу тополя
дорогой, что идет над берегами
Дуэро, от Сан-Поло к Сан-Сатурьо {51},
за древними сорийскими стенами,
оплотом
земли кастильской против Арагона.
Речные тополя — подует ветер,
и зазвучат сухие кроны,
аккомпанируя волне.
Я вижу на стволах клейменых
инициалы — это имена,
и цифры — даты встреч влюбленных.
Вчера лишь, тополя любви, вы пели,
наполненные соловьями,
а завтра, словно лира, изогнетесь
под пряными весенними ветрами.
Вас, тополя, глядящие в Дуэро,
который волны медленные катит,
я в сердце уношу, и вы со мной
пребудете, покуда жизни хватит.
IX
Со мною, Сория, твои поля,
тишь вечеров и синий контур сьерры,
речные тополя — зеленый сон
твоей земли, земли скупой и серой,
и острая, щемящая тоска
старинных башен, улочек пустынных.
Навек все это в душу мне запало.
Иль поднялось из недр ее глубинных?
Народ Нумансии {52}, хранящий бога,
как христиане первые хранили,
пусть солнца свет твою омоет душу
и радость даст тебе и изобилье.