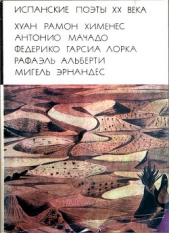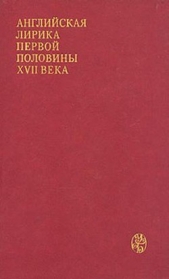Ты ль это, друг мой Гвадаррама, ты ли?
Твои ль уступы серые кругом?
В мадридских сумерках передо мною плыли
твои снега в мечтанье голубом.
Меж строгих скал иду с моей мечтою,
гляжу вокруг: не отвести очей,
отражены сияющей землею
дневного солнца тысячи лучей.
Апрель придет, водой зальет.
И ветер мокрый, и клоками
лазури между облаками
проглядывает небосвод.
Дождь с солнцем. Вдруг у окоема
громаду тучи сизой
зигзагом молнии прожгло,
и докатился отзвук грома.
И струйки тянутся с карниза,
дробятся капли о стекло.
Дождь сеет мелко, как в тумане
всплывает на переднем плане
зеленый луговой ковер,
размыто рощи очертанье,
исчез далекий контур гор.
А дождевые нити косо
срезают лиственный пушок
и гонят волны поперек
широкого речного плеса.
Еще из тучи хлещет справа
на сад и бурые посевы,
но солнце вынырнуло слева,
сверкая в лужах, над дубравой.
Дождь с солнцем. То слепящий свет
зальет поля, то тень затянет.
Куда-то холм зеленый канет,
скалы возникнет силуэт.
То высвечены, то из тени
едва видны ряды строений:
домишки, хлев, амбар дощатый.
А к сьеррам, серым и туманным, —
как хлопья пепла или ваты,
проходят тучи карававом.
Безурожайная, скудная осень,
насупленный, серый, печальный вечер,
земля убогая не плодоносит,
и призрак кентавра зловещ и вечен.
Там, по дороге, где степь сухая,
вдоль тополей, что давно облетели,
идет сумасшедший, крича, вздыхая,
в сопровожденье безумья и тени.
Вокруг и вдали, на просторах голых, —
холмы, на которых бурьян и кустарник,
и только на мрачных уступах горных
кряжи дубов, узловатых, старых.
Вопит сумасшедший, шагая следом
за тенью своей, за своим бредом,
такой же нелепый и безобразный,
как эти неистовые крики, —
косматый, оборванный, тощий, грязный,
с огнями глаз на костлявом лике.
Бегство из города… Ужас прохожих,
жалость, брезгливость, брошенный камень,
и торгашей подлые рожи,
и шутки, швыряемые озорниками.
Безумец бежит по просторам божьим;
вдали, за иссохшей, горестной степью,
за ржавым, за выжженным бездорожьем —
ирис, нирвана, сон, благолепье.
Бегство от мерзости… Сумрак вселенский…
Плоть изможденная… Дух деревенский…
Душа, исковерканная и слепая,
в которой не горем сломлено что-то,
мается, мучится, грех искупая, —
черный, чудовищный ум идиота.
Подсудимый, бледный, с кожей гладкой
и со взглядом злым, как пламя, дерзким,
несовместным с кроткою повадкой
и с обличьем детским.
Он привык, пока он был семинаристом,
вниз глядеть, как бы потупив очи долу
иль молитвенник читая с рвеньем истым.
Повторявший: «Пресвятой Марии слава!
Ей, заступнице за грешников, осанна!»,
получивший степень бакалавра,
совершил он, в ожиданье сана,
злодеянье гнусное. Устал он
заниматься текстами святыми,
и ему внезапно жалко стало
лет минувших, отданных латыни.
Он влюбился в девушку — и грозно
страсть хмельная в парне забродила,
словно сок янтарный спелых гроздьев,
и жестокость в сердце пробудила.
Мать с отцом приснились: увидал он
в отсвете очажных красных углей
стариков с землей и капиталом,
работяг с крестьянской кожей смуглой.
О, наследство! Белый цвет на вишнях
и орешник — сад семейный, старый,
золотой поток с полей пшеничных,
до краев заполнивший амбары!
И топор он вспомнил — острый, тяжкий,
на стене висевший, — тот, что грубо
тело дерева рубил с оттяжкой
и дровами делал ветви дуба…
Пред убийцей — траура суровей
одеянья судей важных,
и одной чертой чернеют брови
хмурых простолюдинов-присяжных.
Адвокат ораторствует страстно,
в такт стуча по кафедре рукою,
писарь гонит строчку за строкою,
прокурор же, протокол листая,
слушает защиту безучастно,
выспренние речи презирая,
стекла золотых очков устало
кончиками пальцев протирая.
Юный ворон бредит снисхожденьем.
«Парня вздернут» — так считает пристав.
А народ, сырье для казней, с вожделеньем
ждет, чтоб злу досталось от юристов.