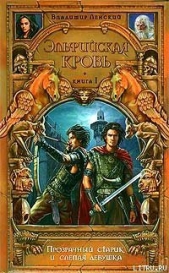Всё покосилось.
Дом, где родилась ты,
уж стены сдал свои на милость
плесени, годам.
На небе звёзды, — даже те, как говорят,
не из желания уже мерцают, из нужды.
А боги те, которым доверяла, —
убивцами на деле оказались.
И всюду, где приметить сможешь шею,
вглядись, — на ней же разглядишь петлю.
Там горы, город обступившие кольцом,
раззявили свои зевала
и морем излились — аквамаринового цвета.
Но небо утомилось это море отражать —
и напустило облака на отражение.
Ещё тут говорят, что это — рай
для неспособных видеть сквозь сомнения.
Но то — не место для людей, которые пока не позабыли
как можно помолиться безо всяких слов.
То — место прошлого, разрушенного до основ;
и Бога брошенного,
со зрачками голубыми,
Который странником бродяжит в Собственном краю,
бубня Себе под нос одно пророчество:
«Стоять тебе, где есть ты, в одиночестве».
Всё расшаталось.
Время, — и оно утратило свой смысл былой.
И ты грустишь: ты не желаешь ничего
изо всего того, что стало прошлым.
Или по крайней мере — так оно тебе и кажется.
И новый день не наступает — просто заново случается…
К утру поближе он внезапно распадается
по шву — и так ещё один рождается,
не знающий воспоминаний.
Существованье, как и есть, необработанным
предстанет,
и ты поймёшь, что «Пустота»
другим его названьем станет, —
того, что есть «Сейчас»; его заглавной испостатью.
Как заполняется прореха, темнота?
И как пройтись по уничтоженной террассе?
Никак. И ты стоишь примёрзшая к земле.
И в изумленьи озираешься кругом.
Моленью собственному внемля… Дом…
Да, это дом твой… Вот ты снова тут…
Скитаешься по городу.
И смотришься как шут,
что слишком много загадал про тут и про везде,
да не по той, а по неправедной звезде…
Ты, странница, неужто встречи ищешь ты с собою,
странницей?
Значимее, значимее, значимей всей доброты вселенской
вот эта вот слеза, врисованная
в это вот твоё лицо шута.
Поскольку говоря о «правде», не этот мир имела я в виду:
возможно, он способен на открытость,
но никогда — чтобы правдивым быть.
Правдивость раздвигает рубежи
и согревает почву под лучами
которые пока ни разу не сияли
и под прокладкою из звёзд которые пока что не мерцали
и под луною той что уподобленной лицу пока не стала…
под тою тучею что влагу пока на землю не роняла
под девственной голубизной что назвала ты небом
под страхом отдалённейшим — под ложью той что не было…
И вот листаешь веру ты свою,
теряешь равновесие былое,
надеясь отыскать хоть слово, хоть единый знак,
хоть вздох один, что воскресит в тебе тебя самую…
Найти куда бы ни пришла, везде,
дано тебе печаль, утрату.
Дано узнать, что ты — распластанная на кресте
есть Ева, дева первородная, а крест
твой из стыда, цинизма, муки
сколочен; безразличия и скуки.
И мох горчично-изумрудный воду
вбирает дождевую, и знакомо,
знакомо дождь стучит по купольному своду
воображённого тобой родного дома…
Всё раскрошилось…
Тех, кого любила, не отыскать по прежним адресам —
в отличье от тебя — им не дано вернуться.
Одни разъехались, другие — большинство —
лежат под рукотворными холмами.
Ты — как они уже: от пребыванья твоего
остались лишь следы, продавленные каблуками
среди могил, твоя мертвецкая ладонь
не в силах больше для ласкания согнуться.
Твой дом порожен, пуст.
И на замке — ворота.
Мне не войти — и пусть:
боюсь круговорота
запомнившихся бед,
печали незабытой.
Хотя за столько лет
давно бы мхом повита
предстала — коль жила —
прельстительница Ева.
Но мхом тем заросла
твоя могила. Древо
стоит над ней, но нет
креста. И нет примет
за исключеньем той лишь, что она
на пике расположена холма.
Теперь — когда б желала — ты вольна
предстать себе какая есть сама.
Эх, яблочко небитое, катись
под звуки флейты — за витком виток.
Умолкни, зверь горбатый, и уймись,
не устрашай собою мой Восток.
Возможно — то пустейшие из слов,
произнесённые в неволе,
но мне сказали, что любовь
точнейшая есть мера боли.
Не исчезает прошлое — и в нём
Существование кристаллизуется
В неторопливо возводимый дом
Из слов, что шёпотом рифмуются…