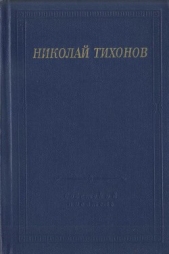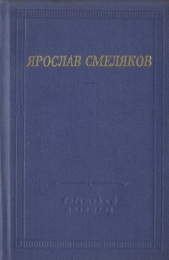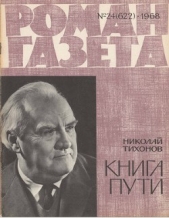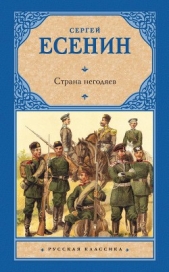Как бы изнемогая,
Закат перетушевывал
Все облака червонные,
Все берега лихие,
Тушил пожары вечера;
Волна же шла дешевая,
Безгривая стихия.
В ней рылись птицы с клекотом
Домашним и глумящимся,
Желтели искры радио,
На мокрый клюв их падая,
И ночь росла на западе,
Как в повести, дымящейся
Всей черной правдой, сдержанной
Лишь вымысла оградою.
Маяк мигал над зыбью нам —
Маяк души не радовал,
Мы плыли в медной рыхлости
Своим советским лагерем,
Но в тенях ночи запада
Тень друга я угадывал.
Быть может, он в Валенсии,
В Париже или в Праге он…
Кузнец ли он, рыбак ли он,
На баррикадах Вены ли
Он ранен и скрывается,
Ушел в страну чужую…
Он — тот, кто сложит песню нам
О беспощадном времени,
Расскажет о Европе
Всё,
Чего не расскажу я.
Я слышал ночью темною
Над корабельной лестницей,
Ведущей к нижней палубе,
Как бы удары кия —
Дыханье строф неведомых…
Шум приближенья песни той
Над робостью шел мелких волн,
Срезая гребешки им.
Тогда над зыбью медною
Явился мир приниженным,
Явленье слова дальнего
Молчанием приветствуя,
Так эта ставка очная
На миг казалась ближе мне,
Чем все воспоминания,
Чем старость или детство.
Очнулся вновь корабль,
Гудя своей громадою,
Вновь засверкало радио,
Искрясь над головою,
Напоминали птицы мне,
Что с мачты шумно прядали,
Своей тревогой вечною
Хозяйство стиховое.
О птицы полуночные!
Вас кличем просто чайками,
Вас кличем гальционами,
Летящими бесстрашно.
Мы роем стиховую
Волну
Крылом отчаянным
И с клекотом глумящимся,
И с клекотом домашним.
1935–1936
142–147. «ВСЁ — КАК НАЧАЛО ПОВЕСТИ…»
Развалившийся старый редут,
У прохожих чугунные лица,
Точно парами нищих ведут
Сквозь побитую градом пшеницу.
Это сон или это пейзаж,
Или снова они побратались,
Дав мне польского поля мираж,
По которому тени шатались.
Никогда еще скуки такой
Я не ведал, как в то воскресенье,
Она шла, разливаясь рекой,
Под костелов унылое пенье.
То шляхетства ли дух отгорал
На лоскутных страстей одеяле,
То мятежные ль села карал
Воевода, и села стонали?
И тогда мне привиделся пан —
Был он вздорный, и пыльный, и гладкий,
Он шагал по полям, обуян
Непонятной ему лихорадкой.
Выбирал лошадей как во сне,
Нанимал он возницей кого-то,
И по желтой лошадьей десне
Проползала большая зевота.
Доплетясь по дороге глухой,
Ждал он поезда в диком буфете,
И какой-то цветочной трухой
На платформе встречал его ветер.
Пан в вагоне часов не считал,
Лишь в окно он косился порою,
И такая росла нищета
За окном, что ничем не закроешь.
А в Варшаве шумят тополя,
Электричеством вымыты спицы,
Позабыв про немые поля,
Как на тризне гуляет столица.
И встает неизвестный солдат
Из могилы, луной освещенной,
И, как маршал, последний парад
Принимает страны обреченной.
И, багровый, в сигарном дыму,
Пан приходит к любовнице ночью,
И понятно ему одному,
Что сказать ему панна не хочет:
Что ей скучно до боли, до зла,
Что довольно душой покривила
И что если бы только могла,
То его бы, как моль, раздавила.
1935
С бензином красная колонка,
Машин немолчный вой,
В туфлях изношенных девчонка
Торчит, как часовой.
В рябой огонь неугомонный,
Рабой рекламы став,
Глядит из ниши там мадонна,
Заледенив уста.
Девчонка рядом с тем величьем
Стоит среди огней,
Есть что-то гордое, и птичье,
И конченное в ней.
И фары хлещут их, как плети,
Обеих, как сестер,
И нет несчастней их на свете,
Их повести простой.
Колонка красная — бензином
Полным она полна,
Девчонка с профилем орлиным
От голода пьяна.
Пусть фары жгут их, словно плети,
Гудки ревут года,
Им всё равно, кому ответить
И с кем уйти куда.
…Я не пишу отсель открыток,
Их нужно б — диких — сто,
Весь этот город полон пыток
И сдерживает стон.
Такой горластый — он немеет,
Такой пропащий — не сберечь,
Такой в ту ночь была Помпея,
Пред тем как утром пеплом лечь.
1935