Легкое бремя
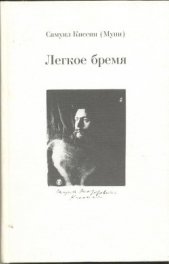
Легкое бремя читать книгу онлайн
С.В. Киссин (1885–1916) до сих пор был известен как друг юности В.Ф. Ходасевича, литературный герой «Некрополя». В книге он предстает как своеобразный поэт начала XX века, ищущий свой путь в литературе постсимволистского периода. Впервые собраны его стихи, афоризмы, прозаические фрагменты, странички из записных книжек и переписка с В.Ф.Ходасевичем. О жизни и судьбе С.В.Киссина (Муни) рассказывается в статье И.Андреевой.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Прорыв в миры иные, «сквозь грубый слой земного бытия» совершается у него посреди привычных условий быта, в комнате (причем, то, что комната круглая — случайность, бытовая подробность), под штукатурным небом и солнцем в шестнадцать свечей. «Несчастные вещи мои»: «и стулья, и стол, и кровать» становятся не просто свидетелями — участниками преображения мира: с одной стороны, материальной массой они подчеркивают, оттеняют рождение нездешней музыки, с другой — их втягивает этот водоворот: «Ив плавный, вращательный танец // Вся комната мерно идет» — вплоть до того мгновения, пока поэт целиком не перетекает в музыку, ею становится: «Я сам над собой вырастаю, // Над мертвым встаю бытием…» («Баллада», 1921).
Но, при всех очевидных различиях в стихах Ходасевича периода «Путем зерна» и «Тяжелой лиры» запечатлены настроения, интонации, а порой и ритмико-синтаксический и строфический рисунок стихов Муни. Он перенес в свои произведения иные его поэтические формулы и образы. Да и само название книги «Тяжелая лира» — не ответ ли на «Легкое бремя»? В сущности, это оксюморон.
Муни писал:
Он ушибался о быт, обо все столы и кровати. Рисуя Муни в очерке, Ходасевич скорее всего неосознанно повторил прием, использованный Достоевским при изображении Шатова. Погруженность героя в идею, духовная его сущность подчеркивалась нарочито грубой лепкой физических черт, выпячиванием их:
…он был неуклюж, белокур, космат, низкого роста, с широкими плечами, толстыми губами, с очень густыми, нависшими белобрысыми бровями, с нахмуренным лбом, с неприветливым, упорно потупленным и как бы чего— то стыдящимся взглядом. На волосах его вечно оставался один такой вихор, который ни за что не хотел пригладиться и стоял торчком [209].
И все это, внешне грубое, стоящее торчком, плохо слепленное, служило сосудом, в котором светился чистейший огонь любви и веры.
Погруженность в себя, точнее в идею, делала героя Достоевского неуклюжим, заставляла двигаться по земле «косолапо» и «как-то боком». Человек чистого и прямого душевного движения, прямого действия, Шатов чрезвычайно неловок среди людей.
Эту же неловкость существования на земле — мешковатость, тяжелый шаг, руки, загребающие, как у гориллы или борца, — отмечает Ходасевич в облике Муни. Прием, позволяющий передать дисгармонию, трагический внутренний разлад героя, живущего «на грани двух миров».
Не хочу сказать, что, прежде, чем приняться за очерк «Муни», Ходасевич перечитывал «Бесов». Скорее сработала типологическая, социально-психологическая близость персонажей, заставившая авторов обратиться к похожему приему.
Хотя, надо отметить, что в юности Достоевским увлекались оба: и Муни, и Ходасевич. В рецензии на «Тяжелые сны» Сологуба (1906) Ходасевич не случайно для определения беса, соблазнившего персонажей романа (а с его точки зрения, и автора!), воспользовался парафразой из «Братьев Карамазовых», растворив цитату в своем тексте: «навязчивый <…> кошмар». (В американском издании статей Ходасевича это привело к забавной опечатке: «навязчивый мышиный комар [210]»).
Муни — Шатов начала XX века, цельный человек, человек идеи, который «корячится» от своей раздвоенности, растроенности, раздрызганности, от необходимости разрываться «на грани двух миров». Жизнь проходит перед ним, как томительный дурной сон, а мечта реальна, ощутима, осязаема, как выдуманная возлюбленная навсегда, «мечтой творимое творенье», дыхание которой он чувствует на щеке, «призывный голос» слышит, «полупритворный поцелуй» ощущает на губах и читателя заставляет увидеть, услышать, ощутить «воздушную гостью» телесно-физически, как в стихотворении «Прогулка».
О той, что делит его земные дни, мы больше ничего не узнаем: она невидима, неслышна, ей присуща обреченная покорность. «Смиренная», «покорная», в стихах Муни жена олицетворяет фигуру ожидания: всегда на диване, с раскрытой книгой, не глядя в нее. И этим ожиданием держит на земле, из вечности возвращает к времени суток простым вопросом: «Который час?»
Зато другая, рожденная из свиста ветра в пустой аллее, прелестно-живая, женственная:
Мучительно переживала эту раздвоенность, неотданность Муни реальная женщина — Лидия Яковлевна Брюсова, мучилась присутствием в их жизни третьей, исподволь допытывалась у друзей, все ли это Грэс, Грэси, та, которой Муни посвящал свои произведения в 1907–1908 годах. Ей казалось, что все знают об этом: родственница Муни Зина Гурьян, его друзья — Ходасевич и Ахрамович. Страницы дневника посвящала она Грэс, уверенная, что это Евгения Владимировна Муратова (дневника матери Л. С. Киссина никому не показывала, но пересказывала отдельные страницы).
Жизнь Муни, действительно, пересекла страсть: с 1907 года он был отчаянно, безнадежно влюблен в Евгению Владимировну Муратову. Страсть настолько всепоглощающая, глубокая, что роман Ходасевича с Муратовой был ею предопределен, предуказан.
Муни сам соединил, обручил их своей любовью в повести «Летом 190* года», в 1907–1908 годах, когда наши герои, ежедневно встречаясь у знакомых, в Кружке, на выставках, глядели друг на друга приветливо-равнодушно. Для встречи понадобилось несколько лет, и тот сумасшедший маскарад, который в Великий пост затеяли Н. Ульянов и П. Муратов в опустевшем, предназначенном на продажу доме. Это был старый купеческий особняк на Новинском бульваре; художники расписали и украсили его комнаты, выстроив празднично-пестрое маскарадное пространство. В пригласительных билетах они просили гостей: «Званым персонам быть в масках и нарядах» и обещали: «Легкость обращения и свобода телодвижения будут допущены [211]».
Но задолго до этого маскарада, отразившегося во множестве произведений москвичей, Муни в стихах подготовил место встречи. Вокруг царицы или царевны он собрал множество масок. А себя видел то вздыхающим Пьеро, то мудрым шутом: «бубенцами зазвенев…»
Не этот ли «шут, унылый и усталый» выглядывает из-за ситцевых полотнищ в стихах Ходасевича?
Не он ли, «рукой зажавши бубенец, // На цыпочках проходит мимо» («Ситцевое царство»)? «Проходит мимо…» — это так похоже на Муни.
Кто разберет, где реальность, где ее отражение? Маски спрыгивают со сцены, выбегают из стихов, кружатся в залах опустевшего купеческого особняка, чтоб затем выплеснуться на улицы Москвы и Венеции.

























