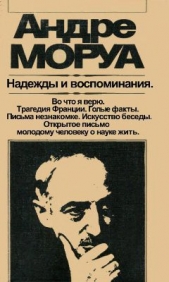Иглы мглы
На нашем литературном портале можно бесплатно читать книгу Иглы мглы, Широков Виктор Александрович-- . Жанр: Поэзия. Онлайн библиотека дает возможность прочитать весь текст и даже без регистрации и СМС подтверждения на нашем литературном портале bazaknig.info.

Название: Иглы мглы
Автор: Широков Виктор Александрович
Дата добавления: 16 январь 2020
Количество просмотров: 512
Иглы мглы читать книгу онлайн
Иглы мглы - читать бесплатно онлайн , автор Широков Виктор Александрович
В книгу Виктора Широкова вошли лучшие стихотворения из его одиннадцати сборников, начиная с 1974 г., а также эссе Новеллы Матвеевой о лирике В. Широкова.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Перейти на страницу:
ОСЕННИЙ ДЕНЬ
Был этот день тревожно мглист,
чего-то ожидая.
Гремел по тротуарам лист,
с деревьев упадая.
Так оглушительно гремел,
подобно жесткой жести,
что я лицом бледнел, как мел,
и ждал печальной вести.
И думал, что зимы приход
(колючей белой смерти)
в лед эти клены закует,
завертит в снежном смерче.
Невыносимо было жаль
молящих веток хилость;
и в душу светлая печаль,
как птица, поселилась.
Молчала площадь, как вдова;
и, словно бы из воска,
нагие стыли дерева,
беленые известкой.
Кто кисти в известь окунал,
плеща густую сырость,
чтоб, как к оглохшим окуням,
мы к кленам относились?!
Кто черствым сердцем не жалел,
дотронуться решаясь,
чтоб мертвый воздух тяжелел,
в кристаллы превращаясь?!
Еще гремел кленовый лист,
еще я шел куда-то;
и ветер-виолончелист
заканчивал сонату.
Как мухи белые, слепя,
возникли ниоткуда;
и это было — как судьба
и продолженье чуда.
* * *
Мертвым соком брызни,
папоротника твердь.
В этой страшной жизни
нужно умереть,
чтоб тебя читали,
чтоб тобой зажглись,
чтоб, шутя, листали
твою жизнь…
ДАЧНАЯ БАЛЛАДА
Тиха на даче жизнь. Безделье. Пустота.
Огромный день легко уходит в мирозданье.
Напудренных берез святая красота
стоит особняком, не требуя названья.
Кудрявый черный пес, свернувшийся клубком,
в облезлом кресле спит и в пышный ус не дует.
Жизнь кажется сплошным раскрашенным лубком,
и старый шулер-смерть здесь карты не тасует.
Ни звука скорбных труб, хоть кладбище — подать
рукою… Старики здесь ходят за грибами.
Разлита в воздухе, как масло, благодать;
и можно ощущать ее легко губами.
Лишь крашеный забор, зеленый, как листва,
напоминает нам о бренности унылой;
а свежих планок строй, как белая плотва,
набившаяся в сеть и стянутая силой.
Тиха на даче жизнь. Лишь ночью мотыльки
стремглав летят на свет и как собаки лают
на бьющий в тело жар, природе вопреки,
и только утром вновь до ночи засыпают.
Я дачный день тяну, как бредень по воде.
То ем, то сплю, то в лес хожу гулять с собакой.
Но в сне или в еде, повсюду и везде
я чувствую себя отловленной салакой.
Лишь только ночь придет, как бодрый, словно крот,
ворочаю пласты бессонницы огромной;
и черный небосвод, ссутулясь у ворот,
высматривает свет в одной из наших комнат.
Я тенью в потолок натружено упрусь,
полночи проведу над строками поэта.
За каждым словом — Русь; и сладостен союз
бумаги и пера, единство тьмы и света.
Тиха на даче жизнь. Нет никаких преград
раздумьям. И строка как шелковая вьется.
И даже дождь с утра, что льет как из ведра,
и тот благословен и дачею зовется.
Я вырос не в тиши и парковых аллей
не видывал в глаза забористым подростком.
И потому вдвойне мне наблюдать милей,
как дочь моя идет к крыльцу по шатким доскам.
У ней — своя стезя. Ей запрещать нельзя
подружек хоровод и синий телевизор.
А дачные друзья — удачные друзья;
и нечего ворчать над ними, как провизор.
Отмеривать ли жизнь, как капли натощак,
елозя по земле пипеткой рыжих сосен
или носить ведром, чтоб полдень не зачах,
и не был жар души, как небеса, несносен.
Тиха на даче жизнь. Я выбрал наугад
одну из тех потерь, что насмерть укатает.
И розовая дверь одной из автострад
в больничный коридор бесплатно доставляет.
Там спит моя жена и мой младенец спит.
И спят они всю ночь с открытыми глазами.
Там стол стоит накрыт. На нем в стаканах спирт.
И пью я этот спирт бессонными часами.
И снова бью стекло в замызганном кафе,
и снова хлещет кровь из ровного пореза.
И совесть, как палач, на ауто-да-фе
ведет, пока жива, до полного пареза.
Тиха на даче жизнь. И привидений рой
не виден за окном, хоть кладбище под боком.
Мать, отчим и отец, умерший брат с сестрой
не могут заглянуть сегодня ненароком.
Пишу и весь дрожу, заслышав странный звук.
В щель хилого окна течет нездешний холод.
Светает. Плеск листвы напомнил море вдруг.
Я под Одессой вновь, с женой и снова молод.
О, если бы я знал тщету прошедших лет
и если бы я мог предугадать заране,
где истин низких тьма, а где блаженства свет,
неужто б и тогда я не скорбел о ране?.
Тиха на даче жизнь. В балладе Пастернак
рассказывал, как взят был в ад, где все в комплоте.
Я в комнате один. И это тоже знак,
как слезный дождь во мгле, что есть мученья плоти.
Давно со стула встал и отошел к стене.
Дрожит рука, пиша взъерошенные буквы.
Тиха на даче жизнь. И это не по мне,
как суп из воронья или бифштекс из брюквы.
Я в комнату к жене и к дочери пойду.
Назойливо жужжит соседский холодильник.
Я жить еще хочу, к нелепому стыду,
и жизнь свою сменять, как сломанный будильник.
Я доплатить готов… Но — кровью сыновей?
Но — близких и родных мученьями — что гаже?
Что современнее? Что проще и модней:
доспехи дьявола или халат из саржи?
Тиха на даче жизнь. И дождик за окном
то остановится, то снова вспять несется.
Стоит на месте дом; кровь ходит ходуном;
и шелковой строки удавка не порвется.
Собаки круглый глаз следит исподтишка.
Мне кажется, белок надглазья окровавлен.
И каждая строка как следствие грешка
гнетет меня и вновь развертывает травлю.
Немолчный разговор деревьев за окном.
Дождинок и листвы сплошные пересуды.
Готов я даже днем сейчас сидеть с огнем.
Ребенок и отец — не разобщить сосуды.
Тиха на даче жизнь. Но жить исподтишка
не сможешь, если сам не вурдалак полночный.
Легко, наверно, впрок сложить два-три стишка,
но трудная стерня — работать внеурочно.
Я перевел уже сегодня двести строк,
стихотворений шесть чувашского поэта.
Не выполнен урок, не подведен итог
страданиям моим, и вот пишу про это.
Тиха на даче жизнь. Мои соседи спят.
Спит и жена, и дочь. Спит чутким сном собака.
Затихло все вокруг. Уже не шелестят
березы и дубы… Спокойно все… Однако…
Готов я повторить строку про благодать.
Тиха на даче жизнь. Как шелковая, вьется.
Я выбрал наугад, чье имя целовать.
Но как мне быть, когда никак он не зовется?
Кудрявый черный пес, свернувшийся клубком,
он тоже спит всю ночь с открытыми глазами.
Поймет ли он меня, вздохнет ли он тайком,
сочтет ли тоже дождь всемирными слезами?
В балладе Пастернак рассказывал, как взят
был в ад; он видел сон… Бессонница страшнее:
все видишь наяву и не свернешь назад.
Тиха на даче жизнь. Не может быть тошнее.
Безделье. Пустота. Огромный день легко
умчался в никуда. И длится прозябанье.
И мертвенных берез ночное молоко
второй накаплет путь, не требуя названья.
Я выбрал крестный путь. Не два, не три стишка
я сочинил впотьмах под шум воды проточной.
Тиха на даче жизнь. Но жить исподтишка
не буду никогда и здесь поставлю точку.
Перейти на страницу:
Рекомендуем к прочтению