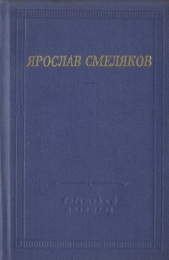На какой — не запомнилось — стройке
года три иль четыре назад
мне попался, исполненный бойко,
безымянной халтуры плакат.
Без любви и, видать, без опаски
некий автор, довольный собой,
написал его розовой краской
и добавил еще голубой.
На бумаге, от сладости липкой,
возвышался, сияя, копер,
и конфетной сусальной улыбкой
улыбался пасхальный шахтер.
Ах, напрасно поставил он точку!
Не хватало еще в уголке
херувимчика иль ангелочка
с обязательством, что ли, в руке…
Ничего от тебя не скрывая,
заявляю торжественно я,
что нисколько она не такая,
горняков и шахтеров земля.
Не найдешь в ней цветов изобилья,
не найдешь и садов неземных —
дымный ветер, замешенный пылью,
да огни терриконов ночных.
Только тем, кто подружится с нею,
станет близкой ее красота.
И суровей она, и сильнее,
чем подделка дешевая та.
Поважнее красот ширпотреба,
хоть и эти красоты нужны,
по заслугам приравненный к хлебу
черный уголь рабочей страны.
Удивишься на первых порах ты,
как всесильность его велика.
Белый снег, окружающий шахту,
потемнел от того уголька.
Здесь на всем, от дворцов до палаток,
что придется тебе повстречать,
ты увидишь его отпечаток
и его обнаружишь печать.
Но находится он в подчиненье,
но и он покоряется сам
человечьим уму и уменью,
человеческим сильным рукам.
Перед ним в подземельной темнице
на колени случается стать,
но не с тем, чтоб ему поклониться,
а затем, что способнее брать.
Ничего не хочу обещать я,
украшать не хочу ничего,
но машины и люди, как братья,
не оставят тебя одного.
И придет, хоть не сразу, по праву
с орденами в ладони своей
всесоюзная гордая слава
в общежитье бригады твоей.
1957
Зимним утром, неспешно и праздно,
и не весел, и вроде не зол,
размышляя о мелочи разной,
я вдоль невского берега шел.
И как раз в эту самую пору —
я узнал ее всем существом! —
мне впервые явилась «Аврора»
в неподвижном величье своем.
По-граждански нескладно одетый,
замирая от счастья тайком,
шел я тихо по палубе этой,
запорошенной мирным снежком.
И потом, оглянувшись неловко,
в тишине, словно мальчик какой,
легендарной той шестидюймовки
я несмело коснулся рукой.
Сразу пальцы недвижными стали,
я не смог их тогда развести.
Ощущение бури и стали
я унес осторожно в горсти.
Что мне мелкое счастье и горе,
что с того, что сутулиться стал,
если я на самой на «Авроре»
озаренный и бледный стоял!
И меня через долы и горы
вместе с русским народом ведет
указующий палец «Авроры»,
устремленный — всё время! — вперед.
1957 Ленинград
Мы утром пока еще смутно
увидеть сегодня могли,
как движется маленький спутник —
товарищ огромной земли.
Хоть он и действительно малый,
но нашею жизнью живет.
Он нам посылает сигналы,
и их принимает народ.
Эпоха дерзаний и странствий,
ты стала сильнее с тех пор,
когда в межпланетном пространстве
душевный пошел разговор.
Победа советского строя,
путь в дальнее небо открыт —
об этом звезда со звездою
по-русски сейчас говорит.
1957
Купив на попутном вокзале
все краски, что были, подряд,
два друга всю ночь рисовали,
пристроясь на полке, плакат.
И сами потом восхищенно,
как знамя пути своего,
снаружи на стенке вагона
приладили молча его.
Плакат удался в самом деле,
мне были как раз по нутру
на фоне тайги и метели
два слова: «Даешь Ангару!»
Пускай, у вагона помешкав,
всего не умея постичь,
зеваки глазеют с усмешкой
на этот пронзительный клич.
Ведь это ж не им на потеху
по дальним дорогам страны
сюда докатилось, как эхо,
словечко гражданской войны.
Мне смысл его дорог ядреный,
желанна его красота.
От этого слова бароны
бежали, как черт от креста.
Ты сильно его понимала,
тридцатых годов молодежь,
когда беззаветно орала
на митингах наших: «Даешь!»
Винтовка, кумач и лопата
живут в этом слове большом.
Ну что ж, что оно грубовато, —
мы в грубое время живем.
Я против словечек соленых,
но рад побрататься с таким:
ведь мы-то совсем не в салонах
историю нашу творим.
Ведь мы и доныне, однако,
живем, ни черта не боясь.
Под тем восклицательным знаком
Советская власть родилась!
Наш поезд всё катит и катит,
с дороги его не свернешь,
и ночью горит на плакате
воскресшее слово — «Даешь!».
1957 Поезд «Москва — Лена»