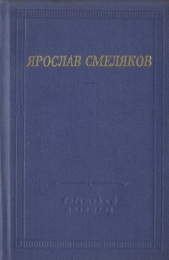Не на пляже и не на ЗИМе,
не у входа в концертный зал, —
я глазами тебя своими
в тесной кухоньке увидал.
От работы и керосина
закраснелось твое лицо.
Ты стирала с утра для сына
обиходное бельецо.
А за маленьким за оконцем,
белым блеском сводя с ума,
стыла, полная слез и солнца,
раннеутренняя зима.
И как будто твоя сестричка,
за полянками, за леском
быстро двигалась электричка
в упоении трудовом.
Ты возникла в моей вселенной,
в удивленных глазах моих
из светящейся мыльной пены
да из пятнышек золотых.
Обнаженные эти руки,
увлажнившиеся водой,
стали близкими мне до муки
и смущенности молодой.
Если б был я в тот день смелее,
не раздумывал, не гадал —
обнял сразу бы эту шею,
эти пальцы б поцеловал.
Но ушел я тогда смущенно,
только где-то в глуби светясь.
Как мы долго вас ищем, жены,
как мы быстро теряем вас.
А на улице, в самом деле,
от крылечка наискосок
снеговые стояли ели,
подмосковный скрипел снежок.
И хранили в тиши березы
льдинки светлые на ветвях,
как скупые мужские слезы,
не утертые второпях.
1955
Не в смысле каких деклараций,
не пафоса ради, ей-ей,—
мне хочется просто признаться,
что очень люблю лошадей.
Сильнее люблю, по-другому,
чем разных животных иных…
Не тех кобылиц ипподрома,
солисток трибун беговых.
Не тех жеребцов знаменитых,
что — это считая за труд —
на дьявольских пляшут копытах
и как оглашенные ржут.
Не их, до успехов охочих,
блистающих славой своей, —
люблю неказистых, рабочих,
двужильных кобыл и коней.
Забудется нами едва ли,
что вовсе в недавние дни
всю русскую землю пахали
и жатву свозили они.
Недаром же в старой России,
пока еще памятной нам,
старухи по ним голосили,
почти как по мертвым мужьям.
Их есть и теперь по Союзу
немало в различных местах,
таких кобыленок кургузых
в разбитых больших хомутах.
Недели не знавшая праздной,
прошедшая сотни работ,
она и сейчас безотказно
любую поклажу свезет.
Но только, в отличье от прежней,
косясь, не шарахнется вбок,
когда по дороге проезжей
раздастся победный гудок.
Свой путь уступая трехтонке,
права понимая свои,
она оглядит жеребенка
и трудно свернет с колеи.
Мне праздника лучшего нету,
когда во дворе дотемна
я смутно работницу эту
увижу зимой из окна.
Я выйду из душной конторки,
заранее радуясь сам,
и вынесу хлебные корки,
и сахар последний отдам.
Стою с неумелой заботой,
осклабив улыбкою рот,
и глупо шепчу ей чего-то,
пока она мирно жует.
1956
Позабыты шахматы и стирка,
брошены вязанье и журнал.
Наша взбудоражена квартирка:
Галя собирается на бал.
В именинной этой атмосфере,
в этой бескорыстной суете
хлопают стремительные двери,
утюги пылают на плите.
В пиджаках и кофтах Москвошвея,
критикуя и хваля наряд,
добрые волшебники и феи
в комнатенке Галиной шумят.
Счетовод районного Совета
и немолодая травести —
все хотят хоть маленькую лепту
в это дело общее внести.
Словно грешник посредине рая,
я с улыбкой смутною стою,
медленно — сквозь шум — припоминая
молодость суровую свою.
Девушки в лицованных жакетках,
юноши с лопатами в руках —
на площадках первой пятилетки
мы и не слыхали о балах.
Разве что под старую трехрядку,
упираясь пальцами в бока,
кто-нибудь на площади вприсядку
в праздники отхватит трепака.
Или, обтянув косоворотку,
в клубе у Кропоткинских ворот
«Яблочко» матросское с охоткой
вузовец на сцене оторвет.
Наши невзыскательные души
были заворожены тогда
музыкой ликующего туша,
маршами ударного труда.
Но, однако, те воспоминанья,
бесконечно дорогие нам,
я ни на какое осмеянье
никому сегодня не отдам.
И в иносказаниях туманных,
старичку брюзгливому под стать,
нынешнюю молодость не стану
в чем-нибудь корить и упрекать.
Собирайся, Галя, поскорее,
над прической меньше хлопочи —
там уже, вытягивая шеи,
первый вальс играют трубачи.
И давно стоят молодцевато
на парадной лестнице большой
с красными повязками ребята
в ожиданье сверстницы одной.
…Вновь под нашей кровлею помалу
жизнь обыкновенная идет:
старые листаются журналы,
пешки продвигаются вперед.
А вдали, как в комсомольской сказке,
за повитым инеем окном
русская девчонка в полумаске
кружится с вьетнамским пареньком.
1956