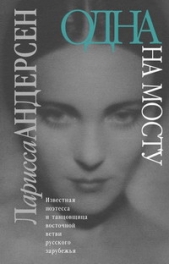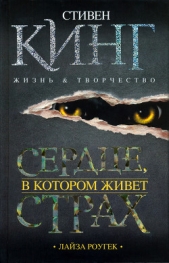Тяжелая душа: Литературный дневник. Воспоминания Статьи. Стихотворения

Тяжелая душа: Литературный дневник. Воспоминания Статьи. Стихотворения читать книгу онлайн
«Тяжелая душа» — впервые издающиеся мемуары Владимира Ананьевича Злобина (1894–1967), поэта, прозаика, публициста русского зарубежья, с 1916 г. литературного секретаря Д.С. Мережковского и З.Н. Гиппиус, а после 1945 г. — хранителя их семейного архива. В сборник вошли статьи, очерки, эссе эмигрантского «Литературного дневника», печатавшегося в парижском журнале «Возрождение», книга воспоминаний «Тяжелая душа» о З.Н. Гиппиус и ее окружении, раритетный сборник «После ее смерти», посвященный памяти Гиппиус, и стихотворения разных лет.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
То, что из меня делает Ульянов, даже не карикатура — до того это не я и содержание, какое он в мои слова вкладывает, до того не соответствует их смыслу, что в первую минуту не соображаешь, о ком и о чем речь. Не я, а какой-то манекен, который он же выдумал и с которым по-настоящему сражается. Первый логический из этого вывод — это что и я сражаюсь с манекеном и что настоящий живой Ульянов тут ни при чем. Мы оба бьем мимо цели.
Когда я писал: «Вот уже сорок лет, как мы на волоске над пропастью…» — я хотел подчеркнуть элемент чудесности в нашей эмигрантской судьбе. Как было не понять такой простой вещи. Я писал: «Ульянов не заметил: в нашей судьбе, в судьбе русской эмиграции есть нечто парадоксальное, как бы вечный вызов здравому смыслу». Висеть на волоске над пропастью — значит быть готовым к ежеминутной катастрофе, которая может кончиться гибелью. Что общего между человеком в таком положении и комфортом — ей-Богу, не вижу. Но вот в ответ на мои слова о чуде, о том, что, несмотря на все испытания и беды нашей эмигрантской жизни, судьба нас хранит, — Ульянов пишет: «Я не психиатр и не могу дать определения внутреннему состоянию, продиктовавшему эти строки, но они превосходно объясняют, почему человек, комфортабельно устроившийся «на волоске над пропастью», слышать не хочет ни о каких опасностях». При всем сознании своего несовершенства я никак не могу отнести эти слова к себе. Мне все время кажется, что Ульянов говорит о каком— то моем однофамильце. Но это, может быть, именно потому, что я как раз из числа тех оппонентов Ульянова, для которых, как он думает, «самого понятия «осознания» зла не существует». Говорю «может быть», потому что возможно и другое объяснение. Возможно, что мы с Ульяновым (т. е. я, а не мой однофамилец) в слово «зло» вкладываем различное содержание и то, что Ульянову кажется злом, мне таковым не кажется или кажется злом «не столь большой руки». Продолжая разоблачать моего однофамильца, Ульянов говорит: «Мои выступления, постоянно напоминающие о близости катастрофы, приводят его в бешенство». За бешенство однофамильца не отвечаю. Но о близости какой катастрофы говорит Ульянов? Для меня есть только одна — война. По сравнению с нею все другие — пустяки.
В пылу спора я назвал Ульянова «удавом» и «людоедом». По этому поводу он пишет: «Подозреваю, что «зверь из бездны», «Антихрист» тут же промелькнул в его мозгу. Злобину, прожившему всю свою парижскую жизнь с Мережковскими, стоило, вероятно, немалого труда воздержаться от этих пифических слов. Остановила, надо думать, мысль: «Много чести будет». Что именно «мелькало в мозгу» моего однофамильца и какая происходила в нем внутренняя борьба, лучше меня знает выдумавший его Ульянов. В моем же мозгу мелькало слово совсем другого порядка, нисколько не пифическое, очень точное, произнести которое в споре с Ульяновым, надеюсь, не придется.
Посвященную мне часть своей статьи Ульянов заканчивает: «Полагаю, что Е.Д. Кускова, отнюдь не политическая единомышленница Мережковских, ближе к ним по духу, чем «свой» человек Злобин. У нее было то, что всегда отличало чету Мережковских, — тревога за будущее русской культуры, и чего совсем нет у Злобина».
Т.е. у моего однофамильца. Прошу читателя не смешивать. Что же до «четы Мережковских» с их тревогой за будущее русской культуры, то это было не совсем так, как представляет себе Ульянов. Вообще он Мережковских ненавидит. Я это уже давно замечал. Не то чтоб они были в действительности лучше или хуже, чем кажется Ульянову, — не лучше, не хуже, а другие. И мир, в каком они жили, тоже был особенный, ни на какой другой не похожий.
В этом мире не было ни времени, ни пространства, и вместе с тем это не был мир отвлеченных понятий, мир идей. В нем все было в высшей степени реально. Время и пространство как бы переставали в присутствии Мережковских быть преградой между людьми, становились соединяющими их мостами. Об этом хорошо говорит в своем стихотворении «Над забвеньем» Гиппиус:
К России относились не всегда одинаково:
Но любили ее — оба — страстно, Гиппиус, пожалуй, даже страстнее, чем Мережковский. В <19> 18 г., под большевиками, она писала:
Эта страстность на первый взгляд плохо вяжется с тем представлением, какое мы имеем о Гиппиус (до сих пор!). В свое время я это отметил в статье «Неистовая душа»* [* См. «Возрождение», тетрадь 47]. Вот что я тогда писал: «Кто, глядя на эту нарумяненную, надменную, немолодую даму, лениво закуривающую тонкую, надушенную папиросу, на эту капризную декадентку, на эту немку, мог бы сказать, что она способна живой закопаться в землю, как закапывались в ожидании Второго Пришествия раскольники, о которых с таким ужасом и восторгом рассказывает в своей книге «Темный лик» В.В. Розанов? Да, такой в своем последнем обнажении была З.Н. Гиппиус — неистовая душа».
Мы привыкли к ледяному тону, к жестокому спокойствию ее стихов. Но среди русских поэтов XX века по силе и глубине переживания вряд ли найдется ей равный. Напряженная страстность некоторых ее стихотворений поражает. Откуда этот огонь, эта нечеловеческая любовь и ненависть?
Но Россией для Мережковских исчерпывалось не все. Был еще мир — земля, и они его любили не меньше, чем Россию, — той же не отвлеченной, страстной любовью. За три месяца до революции, в ноябре <19>16 г., Гиппиус писала:
Я не сомневаюсь, что тревога Екатерины Дмитриевны Кусковой за будущее русской культуры была вполне искренна и что она ее любила не меньше, чем, скажем, Горький. Кстати, об этой любви Горького к культуре Гиппиус когда-то писала:
Но что между Кусковой и Мережковскими существовала какая-то внутренняя связь и что они были друг другу близки по духу, как in extremis* [* В последний момент — фр.], утверждает Ульянов, — по меньшей мере спорно.