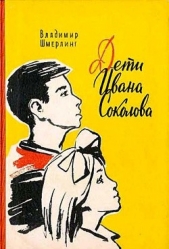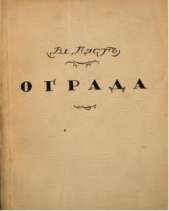Это вечное стихотворенье...
На нашем литературном портале можно бесплатно читать книгу Это вечное стихотворенье..., Соколов Владимир Н.-- . Жанр: Поэзия. Онлайн библиотека дает возможность прочитать весь текст и даже без регистрации и СМС подтверждения на нашем литературном портале bazaknig.info.

Название: Это вечное стихотворенье...
Автор: Соколов Владимир Н.
Дата добавления: 16 январь 2020
Количество просмотров: 420
Это вечное стихотворенье... читать книгу онлайн
Это вечное стихотворенье... - читать бесплатно онлайн , автор Соколов Владимир Н.
Выдающийся лирик Владимир Соколов (1928–1997), лауреат Государственной и Пушкинской премий, оставил большое творческое наследие. Книга «Это вечное стихотворенье…» воспроизводит путь поэта, длившийся полвека. Пройдем по этому времени вслед за высокой Музой одного из лучших русских поэтов XX века.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Перейти на страницу:
«Да, вот такие же, как ты…»
Да, вот такие же, как ты,
Мне не дали добредить в юности,
Все выпрямляя до черты
И округляя до округлости.
Вы закругляетесь теперь,
Но что мне делать с той
сиреневой
Ордой, ломившеюся в дверь, —
А я захлопывал переднюю.
Стремясь себя в проулки
вытеснить,
Поскольку был не чем иным,
Как клеветою на действительность.
Все выдержал, любовь любя.
Но — хоть скажи в свой час
шагреневый:
«Я выкорчевал тебя,
Исчадье ада, — куст сиреневый».
Пицунда
Простая добытая строчка,
Упавшая на берегу,
Терзала меня в одиночку:
Ищу, а найти не могу.
Глазастые камни моргали
На вытянутом берегу.
Дельфины уже помогали,
А я все найти не могу.
Искал и искал эту строчку
И в море, и на берегу.
Но время поставило точку —
Я жить без тебя не могу.
«Если была у меня любовь…»
Если была у меня любовь,
То это ты, Москва.
Рифму старинную вновь и вновь
Мне говорят слова.
Если была у меня тоска,
То по одной тебе,
Время единственное — Москва,
Сердце, судьба в судьбе.
Если когда-нибудь я умру
Так, что меня сотрут
Вместе с фамилией, как муру,
Чьи-то стихи и труд,
Ты моим именем будешь, мы
Все уместимся в нем,
Все наши нежности и умы
С холодом и огнем.
Сюжет (Поэма)
Вот вам конспект
лирической поэмы.
Песочек, отмель возле глубины.
Любовь к искусству…
Остальные темы
из отдаленья к ней подключены.
Пока бродил я в поисках сюжета,
не зная, как мне быть
с моей душой,
которая была со мной и где-то
и все еще хотела стать большой,
растаяла зима, а это лето…
Оно горело. И паленым пахло
и в доме, и на улице любой,
как с отдаленных торфоразработок.
Все колыхалось: люди и дома.
Припоминалась лютая зима.
Я думал о Каире. Магадан
переместился в полушарьях мозга
туда куда-то… За меридиан
жары… Слепила южная известка,
как снег…
Мороз,
как солнце,
обжигал.
Мне это все
тем лучше представлялось,
что не был я ни там, ни там.
Хотел,
да как-то все никак не удавалось.
Так горячился я и холодел
(а почему, скажу об этом ниже),
что из Москвы
никак не уезжалось.
Жара была в разгаре.
Пух летел,
как мухи белые.
Короче, я
жил в отпуске меж севером и югом
и оба полюса носил в себе.
Художник был по складу
общим другом.
И, в общем, жил вначале так себе.
Тот переулок назывался Вспольным.
Он к Патриаршим вяло вел прудам.
И о художнике я вяло вспомнил,
поскольку жил художник
где-то там.
Я думал:
как бы он изобразил
пустую улицу, дрожащий воздух,
больших домов коротенькие тени
и тротуар, снимавший отпечатки
с мужских подошв
и дамских каблуков?
Или закат в невиданном Каире,
что отразился на твоем письме
о переходе синего в лиловый,
а дальше в красный,
с выходом в полнеба,
напоминавший о Сахара-сити,
где чуть пониже зарева стояли;
о пальмах и о бомбах, о домах…
В сорок четвертом, помнится, году
мы в Исторической библиотеке
с ним познакомились у картотеки.
Потом здоровались. Но на ходу.
Когда же рядом заняли места,
он, что-то полистав,
заметил хмуро,
что передвижники — литература,
а живопись — «Явление Христа».
Тогда нам было
по шестнадцать лет.
Мы занимались в юношеском зале.
Совсем не то, что на дом задавали,
читали и художник, и поэт,
скрывавшие от мира гениальность
и двойки — от усталых матерей.
Меж тем как вьюги
жесткая реальность
нас поджидала около дверей.
Кудрявый, с дымно-серыми глазами,
как бы размазанными под бровями
или заплаканными, но без слез,
худой, как все мы,
небольшого роста,
держался он
с самим собой непросто
и тем в глазах моих невольно рос.
Его молниеносные движенья
кому-то наносили пораженья,
когда он перелистывал альбом,
мерцавший тусклым лаком
литографий,
или с лицом — грустнее эпитафий,
окаменев, склонялся над столом.
В его обличье судорожном
что-то
дышало жаждою переворота,
и пересмотра,
и крутых реформ
в искусстве,
что томами громоздилось
перед его глазами,
гнев и милость
в них вызывая…
А зима дымилась,
снег выдавая нам без всяких норм.
По Красной площади гуляла вьюга.
Деревья в Александровском саду
поскрипывали…
Снег хрустел упруго…
В сорок четвертом, помнится, году.
Какая все же дикая жара!
Пух тополиный лепится повсюду,
как дух нечистый,
но довольно белый.
Струится в рельсах,
виснет на кустах —
влетает в окна, словно мошкара.
Подобен куст распоротой подушке.
Движенье воздуха — и пух летит.
А запах, схожий с запахом пожара,
его почти уподобляет пеплу…
И чей-то возглас:
— Ты мне послан Богом!
Художник был по складу
общим другом.
И, в общем, жил вначале так себе.
Но двадцать лет назад он
прозвучал,
понравился, и не без потасовки,
как провозвестник антилакировки,
но, говорят,
в дальнейшей обстановке
слегка поправился. И замолчал.
Мне неприятно это говорить.
Как будто осуждать или корить.
Я не судья соседнему искусству.
Я не тянулся к этому искусу:
чернить кого-то,
чтоб себя белить.
Иль утверждать,
что, до заказов лаком,
он не молчал, а запасался лаком.
Но те портреты передовиков…
Нет, лучше вновь
сожги себя на том,
чем ты действительно
живешь и дышишь,
о чем в уме
мучительно ты пишешь,
еще не в праве
стать перед холстом.
Чужой талант, прости,
прости меня,
но знаю я: в сумятице безмерной
божественная дивная мазня
рождает тело красоты бессмертной.
Я знал, что без него не обойдусь,
а почему, хотя и знал,
не ведал.
«Ты послан небом! Я тебя боюсь.
Я думал о тебе. Уже обедал?»
Он думал обо мне… Забавно это,
как совпадает… нечто, иногда…
— Да вот шатаюсь в поисках сюжета…
— Нет аппетита? Это не беда.
Что смотришь? Побелели, поредели
все эти кудри, честь главы моей?
Ты должен мне помочь. —
Мы рядим сели.
Мы не сидели рядом столько дней.
Мы не сидели рядом столько лет.
Но все же что-то знали
друг о друге.
Жару пронзил
короткий посвист вьюги.
Гром прогремел
за посвистом вослед…
Поежась, он спросил меня:
— Сюжет?
Ты шутишь или нет?
— Какие шутки! —
Я отвечал.
— А я вторые сутки
вот тут сижу с утра и дотемна.
Все жду, когда покажется она.
— А по ночам что делаешь?
— Не сплю.
Писатель ждет уж рифмы?
Да! Люблю.
Минуло славное десятилетье,
на душу населения мильоны
процентов стали или чугуна
понарастали.
Я же — весь в дубленках,
кримпленах,
замшах и магнитофонах —
все так же нищ душой,
гол как сокол,
поскольку нет мне моего процента
любви…
— Ты слабо шутишь…
— Не шучу.
Ты мне ниспослан.
Как во сне дурном,
который может оказаться в руку. —
Он замолчал,
прислушиваясь к звуку:
троллейбус шиной бил,
как метроном.
— Так в чем же
должен я тебе помочь?
— Вернуть Марию,
он ответил тихо. —
Вернуть Марию…
Десять лет назад
она ушла в какую-то пустыню.
Вернуть Марию…
Что за тишина!
Молчал бульвар,
безлюдный от жары.
Молчала тень деревьев
над скамейкой.
Молчали даже крики детворы,
игравшей на песке
с садовой лейкой.
Беззвучно за оградой прошуршал
троллейбус…
— Тысячу сюжетов!.. —
ворвалось в уши. —
Знаю, вас, поэтов.
Ведь маешься? Читай, что написал.
Я разовью. Ну что там у тебя?
То ль он хотел
вниманьем удружить,
то ли, расчувствовав,
расположить…
Я прочитал написанное выше,
кончая строчкой «я тебя боюсь».
— Ты пишешь обо мне? —
Я промолчал.
— Да нет. Не знаю…
О себе… О ком-то…
Или о чем-то. Скажем, о погоде!..
Он рассмеялся.
И, демонстративно
понюхав воздух, пальцем покачал:
— Паленым пахнет!
Жаль — другое время.
Какой подтекст бездарно пропадает!
Ну а Каир при чем?
— Я сам считаю,
что ни при чем.
Но если друг родной,
тем более она, там годы тратит… —
Так я и помянул его: мол, хватит.
Трать время на меня или со мной.
— Я рад. Эгоистические нотки!
Сближение с действительностью.
Но
не выпьем ли
пока по рюмке водки,
а там продолжим общее кино?
Не отрешайся. И — не имитируй!
Пошли ко мне. —
И мы пошли к нему.
Он был подавлен
собственной квартирой.
Холсты один стояли к одному.
Одна к другой старинные картины
висели на торжественных крюках.
Бессмертностью тончайшей паутины
сквозило время в лицах и руках…
(Закатов, зорь
божественные штампы.
От смены их не я один устал.
Бессонница и у чуть теплой лампы,
и у подушек, и у одеял.
Поскрипывает пол и спинка стула.
Глядят портреты, не смыкая глаз.
Когда б сейчас
в глаза ты мне взглянула,
то как об угли б, верно, обожглась.
Но ты не взглянешь,
не придешь сюда
ни завтра, ни сегодня. Никогда.)
— Силен метраж? И знаешь, я один.
Была… одна… Я еле откупился.
Одной из лучших, может быть,
картин.
И то, я думаю, поторопился.
Давай не будем больше
об искусстве?
— Мы об искусстве и не говорим…
— Нет! Говорим! Все время.
Не без грусти,
давай, не выпив первой, повторим. —
Он прошептал:
— Ведь первым ты заметил,
что у Марии не лицо, а лик.
Поможешь мне? —
Я снова не ответил.
— Я знаю, где живет она, старик!
Она вернулась. Год назад.
Не важно,
одна ли, с кем-то. Это чепуха…
А важно то,
что действовать отважно
уж не могу. А ведь умел, ха-ха!
А помнишь, как орали мы на льду
в сорок четвертом, кажется, году:
«Я к ветру в выученики пойду,
я у деревьев попрошу подсказки,
пусть мне расскажет ночь,
хоть на ходу,
откуда брать
единственные краски!..»?
Ты сочинил. Там дальше было…
— Стоп!
В чем должен я помочь тебе?
Яснее.
Мы все же
в семьдесят втором году. —
Я чувствовал, что, кажется,
краснею,
и вместе с тем я знал уже: пойду.
— Прошу тебя…
Вот адрес, телефон…
Нет-нет,
мой отключен за неуплату.
Каприз миллионера. Потрясен?
— Весьма. Я позвоню по автомату.
— Постой, присядем вот за этот столик…
(К стеклу прилипли круглые следы.)
Не думай, я еще не алкоголик.
— Да, не похоже.
— За твои труды!
Ушла, представь,
сравнив меня… со мной.
Со мной.
Тебе хоть что-нибудь понятно?
Из-под стекла настольного глядели
рисунки.
Интерьер пустой избы.
Три грации, как три официантки.
Или наоборот. Как хороводец…
Еще одна — высокий сарафан,
кокошник и рублевские глаза.
— Трактир?
— Ты прав. —
И многое в запасе.
Я знал, что это будет на ура.
Лазурь и охру замешав на квасе,
он сделает.
А мне домой пора.
Я заплутался
в этом странном часе.
— Нет, погляди — готический буфет!
Стоит костелом
в черно-тусклом блеске.
«Фарфор — музэй»,
чего в нем только нет!
Вот только выпить даже чаю
не с кем.
— Ты сам не приглашаешь никого?
Или не ходят?
Кто же ты?
— Я скупщик.
Замечу в упреждение вопросца:
иконами не балуюсь. Но есть.
Она Георгия Победоносца
любила. У меня их ровно шесть.
Ты не спросил меня о мастерской.
Она витает на Тверской-Ямской.
Там паучки прелестные, голубчик.
Они творят, как маленькие боги.
Когда же солнце озаряет их,
то в черной рамке,
словно в некрологе,
на их ажуре тлеет мой триптих.
Рожденье. Жизнь. И смерть.
Верни Марию!
Ты вот что, правды и не говори,
чтоб от нее потом не отрекаться.
Ты ей скажи, что я художник.
Только.
Скажи, что я хороший человек.
Она тебе поверит. У тебя,
поскольку ты лентяй, есть ореол
кристальности и неподкупности…
Замолви полсловечка. Порадей
родному человечку. «Человек»
звучит, конечно, гордо. Я им был,
и я им стану
все-таки, голубчик. —
И протянул (губами к хрусталю): —
Я был художником.
Теперь я скупщик.
Я продал душу. Но я вас куплю. —
…Мне было жалко. Потому что я
прекрасно понимал, почти тоскуя,
что не на что ему меня купить,
что больше нечего ему продать,
что слишком много
денег и картин.
Что вся эта
коллекция покупок
в такой цене —
что ничего не стоит
в сравненье с мелочью,
с черновиком
или наброском, что не продаются.
Поскольку в голову-то не придет
приобрести оборванную фразу,
скрип колеса, погоду, стук часов,
невзгоду, паузу —
так не бывает!
Но что-то в мире маленькой поэмы
происходило. Что-то изменялось.
Мы оказались снова на бульваре.
Какой-то образуя микроклимат,
вокруг художника росли сугробы.
Горсть пуха тополиного в ладони
внезапно смялась в тающий
снежок.
Похолодало. Тополь сыпал снегом.
(Банальность,
что ли,
реализовалась.
Но если даже так. Давно пора.)
Во мне стояла тяжкая жара.
Из телефонной будки в отдаленье:
ку-ку, ку-ку — короткие гудки
как следствие нелепого поступка
неслись,
хотя была на месте трубка.
На трубке таял след моей руки.
Мой друг смотрел пытливо на меня —
по-королевски или по-собачьи.
Шел мелкий снег, куда-то семеня.
Туда, наверно,
где сдавались дачи
в предощущеньи будущего дня.
— Да. Вот еще. Нечаянно скажи,
но осторожно, не насторожи:
в особнячке, в Барвихе, помирает
«бомонд», осколок, тетушка моя.
Ее единственный наследник — я.
Я уходил, хоть все еще сидел.
День отсыревший каркал и гудел.
В трех кузовах зеленых,
рыхлясь, ехал
снег, как скульптуры абстракционистов,
но с жизнью больше связанный
по форме
и содержанью…
Около скамьи,
где мы сидели,
развивалась стройка
игрушечная, и довольно бойко,
из матерьяла влажного зимы.
Строителя не замечали мы,
смотря на то, что плыло за оградой.
— А все-таки, куда увозят снег? —
сказал четырехлетний человек,
задумчиво следя за кавалькадой.
— Я думаю, туда,
где в нем нехватка, —
сказал мой друг.
И маленькая складка
его серьезный лоб пересекла. —
А впрочем, я тебе не собеседник, —
пробормотал
единственный наследник. —
Такие, друг Горацио, дела.
Борца за правду нянька увела.
И то, что мы по-зимнему одеты,
и просьба диковатая его,
и этот снег,
и то, что за оградой
опять, качаясь дымкою, стояла
жара, — мне больше странным не казалось.
И это было странно. Мы молчали.
А женщина по имени Мария
шла по другую сторону бульвара,
где жаркий день стоял.
И вслед за ней,
ныряя, быстро бабочка летела.
Да. Мы любили женщину одну.
Он — откровенно, пышно, говорливо.
Я, к сожаленью,
слишком молчаливо,
боясь сказать,
нарушить тишину.
Но это было так давно,
что я
забыл
и улицу, и переулок,
и дом…
Забыл ее, как целый город
со множеством садов
и перекрестков,
цветов и птиц,
дождей и снегопадов…
Забыл, какие у нее глаза…
— Ну что же ты сидишь?
Беги за ней. —
Он тряс меня за локоть. —
Ну, скорее.
Я ждал такого чуда столько дней.
Прошу тебя.
Я на глазах…
Седею.
Я встал и вышел в лето.
Оглянулся.
Снег падал на изящный саквояж,
на куртку с отворотом из цигейки
белей сугроба около скамейки.
Снег падал на блокнот и карандаш.
А рядом, ногу на ногу закинув,
сидел, уставясь на носок ботинка,
другой… Едва я на него взглянул,
как воздух с силой взгляд мой оттолкнул:
с ним рядом я сидел!
Но я и шел.
Вослед витиеватому порханью
желто-лимонной бабочки спеша,
я шел сквозь солнечное колыханье.
Она была, как прежде, хороша.
Был у нее стремительный и мягкий,
слегка косящий,
но балетный шаг…
Но это было так давно,
что я
забыл и улицу, и переулок.
И дом.
Забыл ее, как целый город
со множеством садов
и перекрестков,
дождей и голосов.
Совсем забыл.
Но «мерседес»,
из воздуха возникший,
сформировавшийся из ничего,
был серебрист и холоден на цвет.
Но галстук-бабочка
был расторопен.
И с бриллиантом в запонке
манжета
услужлива была.
В одну секунду за низкой дверцей
туфелька исчезла.
И растворилась в воздухе машина.
Растаяла.
Лишь бабочка металась
желто-лимонная,
кружась на месте,
взлетая, падая,
пока не села мне на рукав.
Тогда я понял все.
Она? Она! И все-таки…
Как жалко.
И это жизнь?
Ни холодно ни жарко,
так переимчиво существовать…
Не знаю я, что лучше:
торговать
все ж богомазом сделанной иконой
иль красотой, от Бога обретенной?
Но, пораженный просто красотой
(а то, что знал я, не было
ни сплетней,
ни выдумкой),
я шел к скамейке той,
спеша скорей покинуть
воздух летний.
Когда входил я
в тот же самый снег,
навстречу мне метнулся человек.
Как показалось мне, он отшатнулся.
Я сам его поспешно миновал.
Приятель мой
на том же самом месте
сидел и, верно,
ждал хорошей вести.
Он бабочку в блокноте рисовал.
Я молча рядом сел.
Он хлопья сдунул.
Я поглядел на хлопья и подумал:
какой мне все же дать ему совет?
Рассеивать ли это заблужденье?
А если в нем последнее спасенье
для человека?
И последний свет?
Сказать: валяй торгуй,
она не лучше?
А вдруг он путаник,
а не валютчик.
Да, я подумал, это вам сюжет…
Но что-то портит мне пейзаж.
Мешает,
у снегопада путаясь в ногах,
куда-то тянет, что-то воскрешает,
о чем-то вопрошает впопыхах.
(Тут появляется и исчезает
одно необходимое лицо —
не обойти.
Всплывает все равно.
Но я его, пожалуй, зарифмую.
Он — друг художника.)
Мой странный друг,
игрок на травке дедовских могил,
где Фил и Фоб
взаимно тратят пыл,
я твой покой кипучий не нарушу —
ты так увлекся
«расстановкой сил»,
что проворонил собственную душу,
о доблестях, о подвигах забыл.
Ты больше не рисуешь и не пишешь.
Ты только околичностями дышишь.
Ты позабыл,
что силы не в салонах,
а в синем небе и лугах зеленых.
Пешком почаще по земле ходи.
А огород — на даче городи.
И не мешай. Не впутывайся в снег.
А все же кто он, этот человек?
Нет имени ему. Он есть никто.
(Подножки ставит здорово зато.)
Он утопает в хлопьях,
как в минувшем.
В прорывах ветра — ветки и углы.
Москва, ты здесь!
Ты в фонаре мигнувшем
средь бела дня
как бы из той поры.
Я иногда кажусь себе мальчишкой,
случайно забежавшим в эти дни.
Ошибся часом. И прижился здесь.
А там еще не кончилась война.
И только будут эти времена.
Москва,
ты старше и неизмеримо
мудрей, и выше, и моложе нас —
вслух и не вслух,
наглядно и незримо
беседующих в этот зыбкий час.
Он говорит:
— А все же те портреты
ты оценил эстетски.
Как-никак
все это лица наших работяг.
Они талантом, наконец, согреты…
— Но быть талантливым
ничтожно мало!
Любой подлог…
Но солнечная мгла
снег в сторону относит.
А со снегом —
скамейку и слова…
Стоит жара.
И движется жара.
Под блеклым небом.
Жара фантомы, видимо, плодила.
Чуть-чуть не натолкнувшись
на себя,
я в лето вышел.
Был, как час, неровен
асфальт
жарой колеблемого дня.
Какая-то заведомая сила
гнала с бульвара этого
меня.
— Ты хочешь, чтобы я тебе устроил
счастливое стеченье обстоятельств?
Случайность хочешь сорганизовать,
нанять божественное провиденье…
Я понимаю
ты дошел до точки.
Но я еще до точки не дошел.
Еще меня мое тиранит время,
еще обоих нас
надолго хватит.
Мне, как свобода, нужен произвол
его минут, его доброт и зол.
Вернуть Марию! —
вот что ты
сказал…
Единственная правда
уст бесцельных.
Какой-то голос был и ускользал,
как полумысль
о далях запредельных.
Тот переулок назывался Вспольным.
Пройдя сквозь Патриаршие пруды,
я снова вышел на него.
И вспомнил,
куда ведут обратные следы.
Арбатский двор
казался страшной далью,
тянул в себя глубокой синевой,
с необъяснимо юною печалью
в себя манил, как в омут головой.
Арбатский двор,
одетый в беспорядок
полувесенних тающих убранств,
был в поздний час
вместилищем загадок
и умопомрачительных пространств.
Там будущность бывала
с нами рядом,
у нас почти сбываясь на глазах.
Ее окликнуть можно было взглядом
и, словно книгу, ощутить в руках.
Когда свиданьем не было свиданье,
когда мы были все еще на «вы»,
он сотворял тебя из синевы,
и белизны, и влажного мерцанья.
Я должен наконец
прибегнуть к средству
простому, тайному, опасным небом
действительно подаренному мне.
Нет времени —
я должен снять пространство.
Я исключаю из пейзажа транспорт.
Чуть-чуть висит еще
железный грохот
грузовиков — но это на мгновенье.
И шелест шин с шипеньем исчезает,
и где-то тает крохотный сигнал…
Но на стоянках и на остановках
внезапно начинается разброд;
но я и этот шум, и толкотню,
поколебавшись, тоже исключаю.
Пустой под ярым,
ярким солнцем город.
(Теперь иди. Теперь входи.
Ты — здесь.)
Я должен снять заклятие с листа.
И разделить одно мгновенье
на два.
Немного страшно. Но рука чиста.
Я напишу. И это будет — правда.
Совсем не надо,
чтобы все всё знали.
Но не проговориться свыше сил
в присутствии бумаги и чернил,
каких бы я прощений ни просил,
как бы меня потом ни наказали.
Как будто замороженное, время
оттаивало… Капали секунды.
Твои глаза мерцавшие…
Твой голос,
он из второй действительности был.
А может быть, из первой,
что забыл,
но так внезапно вспомнил,
так припомнил,
как будто некий занавес приподнял,
как будто некое стекло протер,
как будто раму выставил.
Как будто
дверь отворил в соседнюю —
минуту,
существовавшую как параллель
обыденному, явному, —
и вышел
на голос твой,
которого не слышал
за суетой влиятельной досель.
Несостоявшаяся шла метель,
несбывшаяся падала капель,
невоплотившееся воплощалось
в глаза и хлопья, в руки и в ручьи.
Я стиснул пальцы влажные твои,
твоих ресниц
щекой коснулся — и…
как в пробужденье,
а не в забытьи
все и расплакалось, и рассмеялось.
Два времени одна связала нить.
Долженствовавшее — имело быть.
Несостоявшееся состоялось.
Я ничего придумывать не буду.
Какая мысль у мысли может быть?
О чем мечтает Истина?
Мария,
душа моя, ты есть — и хорошо.
А ведь сначала,
в первые мгновенья,
я говорил на детском языке:
две параллельные пересеклись…
Я волновался, спрашивал:
«Но что же,
но что же делать нам с тобой?
Что выбрать?
Из двух минут, двух вечностей,
двух линий
я умоляю: выбери мою.
Там человек…»
Но что-то поправляло:
пересеклись их сущности.
Мы — в точке.
Мы в воздухе. Мы вместе.
Здесь. Нигде.
Мы существуем только
в этой строчке,
как мысль о тех, кто ходит по воде.
Когда, проваливаясь по лодыжки
в горячий тротуар, я шел к тебе,
я знал об этом только понаслышке.
Теперь я знаю это по себе.
Я ничего придумывать не буду.
Какое чудо может быть у чуда?
Наверно, только явь…
Она сказала:
— Я рада:
ты опередил себя…
Иначе б мы не встретились.
Ты знаешь,
мы тут немножко дальше.
Почему?
Все очень просто.
Там, где вы бросали
чуть начатое, так, на полпути…
Ну, скажем, не решались подойти, —
мы подходили. Сдвинуть вы боялись,
а мы сдвигали. Вы, засомневавшись,
не делали и мучились потом,
так долго, так бессильно сожалея, —
мы делали.
Мы тоже сомневались,
но делали. Поэтому у нас
потерянное время — это сказка,
нравоученье. Мы немножко дальше.
— Вот как… Но ты глядишь
с огромной грустью.
— Да… Я всегда тоскую по тебе.
— Но разве там,
у вас… там нет меня?
Передо мной внезапная стена
возникла.
Трещинки, шероховатость.
Я в первый раз почувствовал тогда,
как может сердце
бесконечно падать.
Стена исчезла.
Я сказал: — Мария! —
И огляделся.
— Что? — она сказала.
Был дворик пуст.
Лишь первая трава
с анютиными глазками цвела.
Светило жарко солнце
в подворотне.
И я сказал:
— Мария, что со мной?
Я устаю — и снегом, и жа
Перейти на страницу:
Рекомендуем к прочтению
Комментариев (0)

Опасные игры (СИ)

Печать Смерти (СИ)

Начало пути (СИ)

Месть (СИ)

Я помню (СИ)

Встреча (СИ)

Афiцыянтка

Ребро жестокости (СИ)

Введение в электронику

Retreat (СИ)

Наукоград:авария (СИ)

Белый Лис. Книга вторая (СИ)

Смущение. Часть 1 (СИ)

Культурист. Шахматы. Сфинкс (СИ)

Два одиночества (ЛП)

Откуда счет ступеням (ЛП)

Лекарство от здоровья (ЛП)

Довольно долго (ЛП)

Велико его терпенье (ЛП)

Мотылек и Темнота (ЛП)