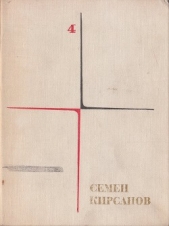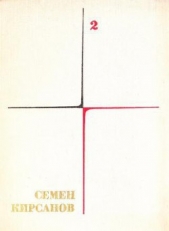На яблоне сердце повисло мое —
осеннее мерзлое яблоко
сквозной червоточиной высверленное!..
Но может случиться немыслимое:
раскинется райская ярмарка
с продажею всякого яркого.
В лотках — плодородье бесчисленное.
Все яблоки — с детскими ямками!
И вдруг ты заметишь на ярмарке
мое — ни одной червоточины,
румянец, не тронутый порчею…
И гладишь рукою утонченной.
И нет — не отбросила прочь его,
но яблоко в радужных капельках
на ветке, увешанной листьями,
мое — выбираешь из прочего.
Но это же чудо немыслимое!
Окончилась райская ярмарка.
На яблоне сердце повисло мое —
осеннее мерзлое яблоко…
Сновиденье явилось извне,
заложило две линзы в ресницы.
Но к чему эти призраки мне?
И могло ли такое присниться:
Будто вышел на улицу я,
оказался в потоке прохожих.
Мимо двигалась лиц толчея,
лиц, одно на другое похожих.
Чем? — Я понял. Исчезли зрачки.
Ни единого взора и взгляда.
Лишь очки, и очки, и очки…
Но зачем и кому это надо?
У одних — непрозрачно блестя,
нечто черное было надето.
Им — игравшее мило дитя
представлялось досадным предметом.
Им казалось — все лица грязны,
и на мрачные их низколобья
чистый снег молодой белизны
опускал мутно-черные хлопья.
У других — эти стекла могли
все показывать в розовом свете.
Даже окон подвальных углы
красовались, как розы в расцвете.
Их носивший был всем умилен,
как немедленно после получки.
Ящик с мусором и утилем
превращался в «Привет из Алушты».
Некто шел и на каждом из лиц
останавливал строгое зренье:
вроде камеры сдвоенных линз
он носил два стекла подозренья.
А другой — на тревожных глазах,
чтоб никто не заглядывал в душу, —
в два овала оправленный страх
перед каждым навстречу идущим.
Шел один, никакой не злодей,
и очки не казались зловещи,
но он ими не видел людей, —
только вещи, витринные вещи!
Я потрогал свои — и нашел
вместо яблок в орбитах скользящих
нечто вроде оптических шор,
искажающий зрение ящик.
Я же знаю, что вижу и лгу
сам себе и что все непохоже!
А вот шоры сорвать не могу, —
так срослись с моей собственной кожей.
О, товарищи, люди, друзья,
поскорей свои очи протрите,
отворите, разденьте глаза
и без стекол на мир посмотрите!
Этот мир не лишен красоты,
иллюзорны испуг и угрозы, —
может быть, мы добры и просты,
и под стеклами теплятся слезы?!
В ночь, бессонницей обезглавленную,
перед казнью моей любви
я к тебе простираю главную
заповедь: «Не убий!»
Не убий ни словом, ни взглядом!
Ни вдали, ни когда мы рядом.
Беатриче, Лаура, Лючия, —
адом Данте и всем, что мучило,
и дуэлью среди снегов,
и шинелью, снятой с него
секундантами на опушке,
на могиле, — Наталия Пушкина,
заклинаю, ступни обвив:
не убий, не убий любви!
Ни открыто, ни мысленно
не убий!
Ни безжалостию, ни милостыней
не убий!
Лаура моя, дорогая моя,
целуемая и ругаемая,
но под солнцем и звездами лучшая,
Беатриче, Наталия, Лючия,
милосердная и жестокая,
аще столько я
претерпел в сей День седьмый,
умоляю тя: не убий!
Не сбивавшего цвет с растения,
не замешанного в растлениях
и в терзавших Спасителя терниях,
не виновного — не убий!
Умоляю тя:
пощади во мне дитя!
Не казни своего дитяти —
сердца в люльке моей души,
не круши его, не убей,
как нельзя казнить голубей.
Не должна подлежать петле
белка, дремлющая в дупле,
и стучащий о древо
дятел, и катающийся у ног
щенок,
кенгуренок, залегший в чрево,
и скользящий травою уж,
и дельфин, мореходец быстрый,
и червяк дождевой у луж
не должны подлежать убийству, —
пусть живут,
пусть летят, плывут…
А любовь — ведь твое дитя, —
не казни, умоляю тя!
В смертной камере одиночества
и стеная наедине —
при бессоннице, среди ночи встав,
я хожу от стены к стене,
на тюремном полу в персти
простираю к тебе персты…
Ни одной обиды не помнящий,
ожидающий скорой помощи,
если я позову — «приди»,
ты приди и коснись груди,
где любовь лепечет — «жива еще»,
и скажи: — Человек, гряди!
Я гряду, почти умирающий,
подымая, как веки Вий,
руки слабые, умоляющие:
— Не убий любви, не убий!..