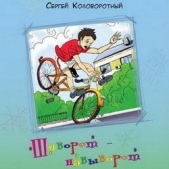Освящение мига

Освящение мига читать книгу онлайн
Эта книга — для читателя, готового встретиться с еще одним всемирным латиноамериканцем без экзотики, патриотом без почвенничества, полагающим, что только уровень мышления обеспечивает искусству национальное и всякое прочее достоинство. Книга без читателя на существует. Октавио Пас, как и Борхес, не уставал повторять, что писатель и читатель — два мига одной и той же операции, что ни одно произведение искусства ничего не говорит вообще и всем, но что всякое произведение — это потенциальное высказывание, обретающее свое значение только под читательским взором.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Есть поэты, считающие, что достаточно некоторых элементарных манипуляций со словом — и между поэтическим произведением и языком сообщества установится гармоническое взаимопонимание. И вот одни обращаются к фольклору, а другие — к местным говорам. Но фольклор, который еще можно найти в музеях и в глубинке, уже сотни лет как перестал быть языком, это или диковинка, или тоска по прошлому. Что же касается растрепанного городского жаргона, то это не язык, а обрывки чего-то, некогда связного и гармоничного. Городская речь окаменевает в устойчивых выражениях, разделяя судьбу народного искусства, поставленного на конвейер, а заодно и судьбу человека, превращенного из личности в человека-массу. Эксплуатация фольклора, использование местных говоров, внедрение в очень цельный текст намеренно антипоэтических, прозаических отрывков — все это литературные средства из того же арсенала, что и искусственные диалекты, которыми пользовались поэты прошлого. Во всех этих случаях речь идет о таких типичных приемах так называемой элитарной поэзии, как пейзажи у английских поэтов-метафизиков, отсылки к мифологии у поэтов Возрождения или взрывы смеха у Лотреамона и Жарри. Эти инородные вкрапления подчеркивают достоверность всего остального, их применяют с той же целью, что и нетрадиционные материалы в живописи. Не случайно «The Waste Land» {96} сравнивали с коллажем. То же самое можно сказать о некоторых вещах Аполлинера. Все это дает поэтический эффект, но более понятным произведение от этого не становится. Потому что понимание связано не с этим: понимание опирается на общие ценности и язык. В наше время поэт не говорит на языке своего сообщества и не разделяет ценностей современной цивилизации. Поэтому поэзии не уйти ни от одиночества, ни от бунта, разве что изменятся и общество, и сам человек. Современный поэт творит только для отдельных индивидов и небольших групп. Может статься, в этом причина его нынешнего процветания и залог будущего.
Историки утверждают, что застойные и кризисные эпохи автоматически рождают упадочную поэзию. И герметическая, усложненная, рассчитанная на немногих поэзия подвергается осуждению. Напротив, для периодов исторического подъема характерно полноценное искусство, доступное всему обществу. Если поэма написана на языке, доступном всем, перед нами зрелое искусство. Ясное искусство — великое искусство. Темное искусство для немногих — упадочное искусство. Это противопоставление выражается соответствующими парами прилагательных: гуманистическое искусство — дегуманизованное, народное — элитарное, классическое — романтическое или барочное. И почти всегда эпохи расцвета совпадают с политическими или военными успехами нации. Как только народы заводят себе огромные армии с непобедимыми полководцами, так у них рождаются великие поэты. Меж тем другие историки уверяют, что это поэтическое величие рождается немного раньше, когда у военных еще только прорезаются зубки, или немного позже, когда внуки завоевателей разбираются с награбленным. Завороженные этой идеей, они составляют лучезарные и сумеречные пары: с одной стороны, Расин и Людовик XIV, Гарсиласо и Карл V, Елизавета и Шекспир, с другой — Луис де Гонгора и Филипп IV {97}, Ликофрон {98} и Птолемей Филадельф {99}.
А что касается темноты и непонятности, следует сказать, что любое поэтическое произведение поначалу представляет известную трудность, творчество всегда борьба с инертностью и расхожими формулами. Эсхила обвиняли в темноте, Еврипида современники не любили и считали малопонятным, Гарсиласо называли чужаком и космополитом. Романтиков обвиняли в герметизме и упадничестве. Тем же нападкам подверглись «модернисты». Но трудность всякого произведения заключается в том, что оно новое. Вне привычного контекста, расставленные по иным правилам, чем в разговорной речи, слова оказывают сопротивление и раздражают. Любое новое творение рождает недоумение. Поэтическое наслаждение можно получить, лишь справившись с некоторыми трудностями, с теми самыми трудностями, которые возникают в процессе творчества. Чтение предполагает сотворчество, читатель воспроизводит душевные движения поэта. С другой стороны, почти все кризисные эпохи и эпохи общественного упадка оказывались урожайными на великих поэтов. Так было с Гонгорой и Кеведо, Рембо и Лотреамоном, Донном и Блейком, Мелвиллом и Дикинсон. Если мы согласимся с историческим критерием, о котором говорилось выше, творчество По окажется симптомом упадка Юга, а поэзия Рубена Дарио — выражением глубокой депрессии, охватившей испано-американское общество. А что прикажете делать с Леопарди, жившим в эпоху раздробленности Италии, и немецкими романтиками в поверженной и сдавшейся на милость наполеоновской армии Германии? Еврейские пророки творили во времена рабства, распада и упадка. Вийон и Манрике пишут в период «осени средневековья» {100}. А что сказать о «переходной эпохе», когда жил Данте? Испания Карла IV дает Гойю. Нет, поэзия не слепок с истории. Отношения у них много тоньше и сложнее. Поэзия меняется, но она не становится ни лучше, ни хуже. Это общество может становиться хуже.
Во времена кризиса слабеют и рвутся связи, цементирующие общество в органическое целое. В периоды общественной усталости эти связи утрачивают гибкость. В первом случае общество распадается, во втором оно каменеет, придавленное имперской личиной. И тогда возникает официозное искусство. Но язык сект и небольших сообществ как раз и благотворен для поэзии. Обособленность придает словам больше силы и веса. Язык посвященных всегда потаен, и, наоборот, всякий потаенный язык, включая язык заговорщиков, почти сакрален. Трудная поэма возносит хвалу поэзии и обличает убогость истории. Фигура Гонгоры говорит о здоровье испанского языка, а фигура графа-герцога Оливареса {101} — об упадке империи. Общественная усталость не обязательно приводит к падению искусств, и совсем не всегда в эти времена умолкает голос поэта. Чаще бывает наоборот: поэты и их творения рождаются в уединении. Всякий раз, когда появляется какой-нибудь великий и трудный поэт или возникает художественное направление, ниспровергающее общественные ценности, следует задуматься о том, что, может быть, это общество, а не поэзия страдает неизлечимой болезнью. Распознать эту болезнь можно по двум признакам: у общества нет единого языка и оно не слышит голос одинокого певца. Одиночество поэта — знак деградации общества. Поэзия предъявляет свой счет истории всегда с одной и той же высоты. Поэтому сложные поэты иногда нам кажутся более возвышенными. Но это обман зрения. Они не стали выше, это окружающий мир стал ниже.
Поэма опирается на язык своего сообщества; но что случается со словами, когда они покидают сферу общественной жизни и становятся словами поэтического произведения? Философ, оратор и литератор выбирают слова. Первый — в соответствии с их значениями, прочие — в зависимости от психологического, нравственного или художественного воздействия. Поэт слов не выбирает. Когда говорят, что поэт ищет свой язык, это не значит, что он шарит по библиотекам или скитается по улицам, подбирая старинные обороты и запоминая новые, это означает, что он мучительно раздумывает над тем, какие ему выбрать слова — те, которые действительно ему принадлежат и были заложены в нем с самого начала, или взятые им из книг и подхваченные на улице. Когда поэт находит слово, он его узнает, потому что оно уже было в нем и он уже был в нем. Поэтическое слово сплавлено с его бытием. Он и есть его слово. В миг творчества самые сокровенные наши глубины пронизываются светом сознания. Творчество в том и заключается, чтобы вытаскивать на свет слова, неотъемлемые от нашего бытия. Эти, а не другие. Поэма состоит из необходимых и незаменимых слов. Поэтому так трудно поправлять уже сделанную работу. Всякое исправление предполагает пересотворение, возвращение к тому, что мы уже прошли, к нам самим. Невозможность поэтического перевода обусловлена тем же самым обстоятельством. Каждое слово поэмы уникально. Синонимов просто нет. Слово не стронуть с места: задев одно, задеваешь все произведение, поменяв одну запятую, перестраиваешь все здание. Поэма — живая целостность, для которой нет запасных частей. Настоящий перевод не может быть ничем иным, как со-творчеством.