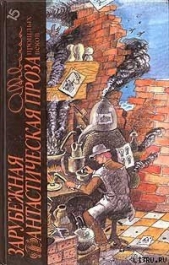Злые песни Гийома дю Вентре : Прозаический комментарий к поэтической биографии.

Злые песни Гийома дю Вентре : Прозаический комментарий к поэтической биографии. читать книгу онлайн
Пишу и сам себе не верю. Неужели сбылось? Неужели правда мне оказана честь вывести и представить вам, читатель, этого бретера и гуляку, друга моей юности, дравшегося в Варфоломеевскую ночь на стороне избиваемых гугенотов, еретика и атеиста, осужденного по 58-й с несколькими пунктами, гасконца, потому что им был д'Артаньян, и друга Генриха Наваррца, потому что мы все читали «Королеву Марго», великого и никому не известного зека Гийома дю Вентре?
Сорок лет назад я впервые запомнил его строки. Мне было тогда восемь лет, и он, похожий на другого моего кумира, Сирано де Бержерака, участвовал в наших мальчишеских ристалищах. «Свой фетр снимая грациозно, на землю плащ спускаю я» соседствовало в моем рыцарском лексиконе со строками: «Пустить вам кварту крови квартой шпаги поклялся тот, кто вами оскорблен». Но, в отличие от Сирано, который жил только в моем воображении да в старой серовато-чернильной книжке Ростана, Гийом (это я уже тогда знал) существовал в реальности — в городе Абан за Уральским хребтом. У меня было даже доказательство его присутствия на земле — часы, подаренные мне, часы, на золотом корпусе которых стояли мои инициалы АКС, сплетенные в причудливый вензель.
Нет, нет, читатель, это не бред воспаленного воображения—это наша жизнь, умеющая сплести из нитей чистой, неприкрашенной правды ковер-самолет, или шапку-невидимку, или судьбу Гийома дю Вентре.
Извольте, оставим романтическую часть этой истории, возьмем ее вполне реальные очертания, которые можно подтвердить документами из личного дела, досье, переписки или метрикой, ратентом, справкой о реабилитации.
Жил-был человек по фамилии Харон, хромировал бабки и преподавал во ВГИКе, дирижировал оркестром и валил двуручной пилой кедры, изобретал многоканальную систему звукозаписи и карусельный станок по непрерывной разливке чугуна, присутствовал на премьере «Броненосца „Потемкин"» в Берлине и при убийстве царевича Димитрия в Угличе, бил ломом лунки под взрывчатку и учил сына произносить букву «р» непременно в слове «синхрофазотрон». Был поэтом и педантом, вольнодумцем и ортодоксом, болел всеми болезнями своего времени и имел к ним пожизненный иммунитет. Был похож на птицу и вообще, и в смысле «мы вольные птицы; пора, брат, пора». И умер в благополучной Москве от лагерного туберкулезного удушья, перехватившего вздох легких.
Вам уже стало понятнее, читатель? Значит, мы на верном пути.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Неисповедимы пути твои, господи! Недели, кажется, через три, когда я изрядно продвинулся и от параши, и в образовательном отношении, внес уже свою посильную лепту в духовную пищу камеры, обстоятельно и увлеченно рассказав о звуковом кино и, в частности, о работе с оркестром, ко мне подсел худощавый мужчина невысокого роста с на редкость живыми глазами и такими же руками:
– Вы давеча обронили интересное замечание об акустике струнно-смычковых.— Говорил он абсолютно правильно, но с едва уловимым акцентом.— Вам случаем не доводилось специально заниматься этим вопросом — акустикой скрипки?
Я сказал, что немножко в курсе опытов, проводившихся в электроакустической лаборатории Берлинской консерватории.
– У доктора Траутвейна? — живо подхватил собеседник.
– Да, у автора «Траутониума», если вы слышали.
– Ну, как же! А вам со скрипками «Гра» встречаться не доводилось?
– Еще бы! Я присутствовал даже при знаменитом испытании: за занавесом играли шесть скрипачей — на Страдивари, Гварнери, Амати и на трех скрипках «Гра», и эти последние набрали больше очков, чем классические.
– Ладно, давайте знакомиться: Фридрих Гра, до недавнего времени — сотрудник ЦАГИ, мы там те же законы (помните? полировка деки…) на пропеллерах испытываем… Испытывали… Теперь уж без меня испытывают: я перешел в шпионы…
…Боже, как стыдно, когда вспоминаешь! Я-то, грешным делом, полагал, что «Гра» — это какое-нибудь шифровое обозначение вроде нашего АНТ или там ГУМ…
Вскоре я сменил папиросы на махорку: дешевле и приятнее. Рассматриваю как-то пачку и замечаю (должно быть, вслух), что упаковка точно такого же характера, как у осьмушки чая. Неужто, думаю (или, вернее, рассуждаю вслух), и махорку стали на блаховских машинах расфасовывать? Машина-то умная и дорогая, мы на экскурсии были, знаешь, целый блаховский цех — огромное работающее предприятие, а людей почти не видно…
– А ты у него самого спроси,— кивнул мой сосед на какого-то старичка (я его, помнится, почему-то считал за священника, хотя был он без бороды и в обычной одежде: черт его знает, почему приписываешь иной раз человеку какую-то профессию или сферу деятельности).
– Почему у него? — переспросил я.— Работал на чайной фабрике? Так я ж про махорку!
Сосед посмотрел на меня то ли с презрением, то ли с состраданием, потом сказал: — Это Блах. Да, тот самый.
…Потом был еще крупный биолог из киевского ВИЭМа, мы с ним обсуждали проблемы генетики, я ведь еще в школе увлекался — смешно сказать! — евгеникой-Потом был известный архитектор. Потом был очень смешной гномик-толстовед: мы все допытывались у бедняги, какие листочки — кленовые или березовые — предпочитал Лев Николаевич для подтирки, и он давал нам на этот счет самые исчерпывающие справки. Потом был пожилой мастер-сталевар, ничем вроде бы не прославившийся, а сюда попавший из-за того, что во время оно с переляку примкнул к «рабочей оппозиции», о которой я, признаться, ни до, ни после ничего не слышал, а этот мастер если и слышал что, то знал к моменту нашего знакомства уж верняком не больше моего. Потом были крупные и не очень крупные деятели Коминтерна — все больше поляки, венгры. Рослый красавец, о котором говорили, что он из ЦК польской компартии, раза два в день возмущался (с характерным ударением на предпоследнем слоге):
– Какая х…вина опять ходила в сапогах по нарам?!
Нары были, впрочем, чистой условностью: их задолго до нас разобрали и вынесли, а взамен положили вдоль стен листы фанеры, фанера все же считалась за нары, которых не хватало, многим приходилось лежать на каменном полу, Система продвижения от параши «вверх» предусматривала, разумеется, и переход — со временем — с голого пола на фанеру. Это уж был высший класс.
…Я слушал эти имена, смотрел на этих людей и чувствовал себя ничтожеством, полным нулем: они все — кто-то и что-то, а кто никто и ничто, тот хоть к «рабочей оппозиции» причастен или хоть спал со шпионками, как этот Поль: был у нас такой пижонистый лопух, дурак дураком, фотограф по профессии,— так его прихватила случайно милиция в кустах на Ленинградском шоссе, где он предавался любви с какой-то красивой, по его описанию и представлению («ляжки — во!»), дамой. Вспугнул их свет фар милицейского мотоцикла. Она, дура, вскрикнула, а то бы их и не заметили, говорит Поль. Еще он говорит, что ее-то отпустили, а его забрали — из-за фотоаппарата, а теперь говорят, что она шпионка и что он снабжал ее фотографиями военных объектов.
У меня и такого не было. То есть фотоаппарат был, но его и не тронули и не упоминали. Его и потом не упоминали, я это только к тому, что, когда я сопоставлял себя со своими товарищами по камере, я казался себе пылинкой, пустым местом, форменным недоразумением. Странно, не правда ли: я и на воле встречался с большими людьми, и даже знаменитостями, учился у них и работал, но никогда не ощущал ничего похожего на «Minderwertigkeitskomplex» — комплекс собственной неполноценности. А тут вдруг почувствовал.
Я потом еще часто убеждался в том, что чувство это было, в общем-то, вполне справедливым, хотя подтверждения лежали уже в совсем иных сферах. Ну, например, когда мы жили в вагончиках на реке Уссури и я в первый раз остался дневалить, я потратил весь день и выбился из сил, пытаясь нарубить дров, чтобы истопить к возвращению бригады печку-буржуйку. Дрова были совсем рядом, в пятидесяти шагах от наших вагонов: сплошная роща каких-то длинных жердей толщиной с мою кисть, без единой веточки или сучка,— впрочем, я и сейчас не знаю, что это за древесная порода такая,— к ботанике я вообще равнодушен. Я знал из литературы, что нужно взять топор,— и взял, конечно, колун: он показался мне солидней, а разницы между топором и колуном я не знал, у нас этого не проходили. Не знал я, что рубить надо наискось, не поперек ствола. В общем, когда бригада вернулась — уставшая, продрогшая и промокшая до костей,— в мой адрес и в адрес вообще интеллигенции поступило немало справедливых упреков, и хорошо еще, что только устных. Дядя Миша, добрая душа, взял топор и только успел сказать: «Смотри», как из-под его руки свалились, словно скошенные соломинки, с десяток отборных жердей. Мы их перетащили к вагончику, и тут он еще за минуту накрошил их, как лапшу, на аккуратные поленца — успевай только подбрасывать в топку.