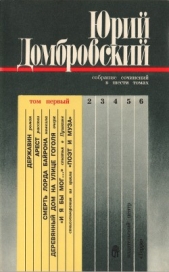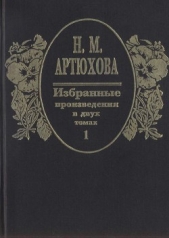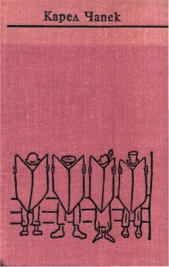Том 2. Произведения 1938–1941

Том 2. Произведения 1938–1941 читать книгу онлайн
Творчество А. Введенского (1904–1941), замечательного русского поэта, только сегодня приходит, наконец, к отечественному читателю. Входивший в группу ОБЭРИУ и погибший в заключении, Введенский не имел возможности публиковать свои произведения, поражающие неповторимой интонацией а философской глубиной.
Во второй том собрания вошли произведения, написанные в 1938–1941 гг., ранние стихотворения, неоконченные сочинения, фрагменты несохранившихся произведений, а также документы, относящиеся к поэтике, литературной судьбе, арестам и гибели Введенского.
http://ruslit.traumlibrary.net
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А. В.: «Признаки вечности» мне правятся. Но я не согласен, что время ощущается, когда есть неприятности. Важнее, когда человек избавлен от всего внешнего и остается один па один со временем. Тогда ясно, что каждая секунда дробится без конца и ничего нет.
Л. Л.: Когда нет событий, ожидания, тогда и времени нет; настаёт пауза, то, что Я. С. называет промежутком или вечностью, — пауза, несуществование. Это кажется странным: разве можно перестать существовать и потом вновь существовать? Но ведь тут много сторон, в одном существование прекращается, в другом отношении продолжается. Ожидание, это участие в токе событий. И только тогда есть время.
А. В.: Я. С. говорит — при ожидании неприятного… И несмотря па все рассуждения время стоит несокрушимое, всё остается по-прежнему. Мы поняли, что время и мир но нашим представлениям невозможны. Но это только разрушительная работа. А как же на самом деле? Неизвестно. Да, меня давно интересует, как выразить обыденные взгляды на мир. По-моему, это самое трудное. Дело не только в том, что наши взгляды противоречивы. Они еще и разнокачественны. Считается, что нельзя множить апельсины на стаканы. Но обыденные взгляды как раз таковы.
Л. Л.: Почему же теории о времени не убедительны, не могут поколебать ничего. Потому что время прежде всего не мысль, а ощущение, основанное на реальном отношении вещей, нашего тела, о широком смысле, с миром. Оно коренится в том, что существует индивидуальность, и чтобы выяснить, что такое время, надо произвести реальные изменения, испробовать разные его варианты. Это возможно, так как мы действительно по-разному воспринимаем время при разных физических состояниях. Но Я. С. предпочитает не делать этого, а удовлетворяться тем, что он заметил, намёками. Это импрессионизм.
А. В.: Это может дать результаты.
Затем: о мгновении.
А. В.: Расстояние измеряется временем. А время бесконечно дробимо. Значит, и расстояний нет. Ведь ничего и ничего нельзя сложить вместе.
Л. Л.: Почему ты решил, что мгновение бесконечно мало? Свобода дробления, это значит, мгновение может быть любой величины. Они, верно, и бывают всякой величины, большие и малые, включенные друг в друга.
А. В.: Если это так, тогда понятно, почему, как ни относиться ко времени, нельзя всё же отрицать смены дня и ночи, бодрствования и сна. День, это большое мгновение.
А. В.: Правда ли, что двое ученых доказали неверность закона причинности и получили за это нобелевскую премию?
Л. Л.: Не знаю. Это связано верно с теорией квант…
Затем: о музыке.
Л. Л.: Меня интересует, чем воздействует на человека музыка. Она самое демаскированное искусство, ничего не изображает. Остальные же как бы что-то представляют, сообщают. Но ясно, они действуют не этим, а так же, как музыка.
А. В.: Когда люди едут на лодке или сидят на берегу моря, они обычно поют. Очевидно, это уместно, музыка как бы голос самой природы.
Л. Л.: А в самой природе её совсем нет…
А. В.: Я читаю Вересаева о Пушкине. Интересно, как противоречивы свидетельские показания даже там, где не может быть места субъективности. Это не случайные ошибки. Сомнительность, неукладываемость в наши логические рамки есть в самой жизни. И мне непонятно, как могли возникнуть фантастические, имеющие точные законы, миры, совсем не похожие на настоящую жизнь. Например, заседание. Или, скажем, роман. В романе описывается жизнь, там будто бы течет время, по оно не имеет ничего общего с настоящим, там нет смены дня и ночи, вспоминают легко чуть ли не всю жизнь, тогда как на самом деле вряд ли можно вспомнить и вчерашний день. Да и всякое вообще описание неверно. «Человек сидит, у него корабль над головой» всё же наверное правильнее, чем «человек сидит и читает книгу». Единственный правильный по своему принципу роман, это мой, по он плохо написан.
Л. Л.: Но ведь это относится ко всему искусству вообще. Разве в музыке, например, не свое время? Разница лишь в том, что музыку и не считают описанием жизни, а роман считают.
А. В.: Может быть я оптимист, по я считаю теперь, что стихи надо писать редко. Я, например, еще до сих пор живу все тем же стихотворением о «гортензии»; чего же мне писать повое, пока старое, так сказать, приносит проценты.
Л. Л.: Все твои теории были всегда в высшей степени практичны: они оправдывают то, что ты в данный момент делаешь.
А. В.: Я понял, чем я отличаюсь от прошлых писателей, да и вообще людей. Те говорили: жизнь — мгновение в сравнении с вечностью. Я говорю: она вообще мгновенье, даже в сравнении с мгновением.
Приложение VIII *
Я.С. Друскин. Материалы к поэтике Введенского
«Чинарь авто-ритет бессмыслицы» — так подписывал Александр Введенский свои стихи в 1925-26 году. «Чинарь», по-видимому, происходит от слова «чин». Ясно, что чин надо понимать здесь не в обычном официальном смысле. Чинарем был и его друг Даниил Хармс, он называл себя в те годы чинарем-взиральником. В чинари посвятил Введенский ещё одного своего друга, не имевшего никакого отношения к Обэриу. Обэриу можно назвать экзотерической организацией — объединением поэтов, совместно выступавших, чинари — эзотерическое объединение, к которому принадлежали ещё Леонид Липавский и Николай Олейников.
Тема этих заметок — бессмыслица Введенского. Понять бессмыслицу нельзя: понятая бессмыслица уже не бессмыслица. Нельзя также искать смысл бессмыслицы: смысл бессмыслицы — такая же, если не большая бессмыслица, чем сама бессмыслица. Тогда что же можно сказать о бессмыслице и как определить тему этих заметок?
…Один из ключевых мотивов Введенского находит выражение в Последнем разговоре (№ 20.10) в повторяющихся строках рефренах: Я сел… и задумался… Задумался о том… Ничего я не мог понять. У Введенского это сказано как оппозиция и подчёркнуто инверсией: Ничего я не мог понять вместо обычного «я ничего не мог ронять». Это непонимание не теоретическое, а реальное, жизненное состояние: экзистенциальное и онтологическое непонимание. Для Фихте экзистенциальное понимание включало и понимание непонятного как непонятного. Введенский сказал бы: непонимание непонятного как непонятного. Это не скептицизм или нигилизм; непонимание, как и бессмыслица Введенского, не негативное, а позитивное понятие. Поэтому может быть оправдана аналогия с docta ignorantia Николая Кузанского — но только как аналогия. В разговоре с Л. Липавским он сказал: «…Я посягнул на понятия, на исходные обобщения, что до меня никто не делал. Этим я провёл как бы поэтическую критику разума, более основательную, чем та, отвлечённая» («Критика чистого разума» Канта. См. Приложение VII, 39.1. — М. М.). Не случайно сравнение с «Критикой чистого разума», Поэзия Введенского соприкасается с гносеологией — поэтическая гносеология. Он сам раз сказал: «о стихах надо говорить: не красиво пли некрасиво, а правильно или ложно». То же самое через 20 лет скажет Шёнберг: «Во времена расцвета искусства его оценивают словами: истинно или ложно, во времена упадка: красиво или не красиво». В другом разговоре с Липавским Введенский сказал: «…Сомнительность, неукладываемость в наши логические рамки есть в самой жизни…» (См. Приложение VII, 39.12. — М. М.).
Здесь Введенский в своих высказываниях о поэзии выходит за пределы гносеологии, в онтологию. Как Стравинский, он мог бы сказать: искусство не выражает что-либо, а есть единение с сущим. Он хочет, чтобы поэзия производила не только словеспое чудо, но чтобы она была настоящим чудом («Разговоры» Л. Липавского). Поэтому же он не считал создаваемый им поэтический мир фантастическим или заумным, наоборот, ему казался фантастическим и заумным обыденный «нормальный» взгляд на мир и на жизнь. По поводу одной популярной статьи он сказал: «заумны не мои стихи, а эта статья».