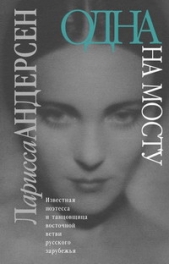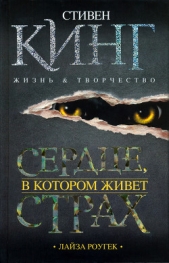Тяжелая душа: Литературный дневник. Воспоминания Статьи. Стихотворения

Тяжелая душа: Литературный дневник. Воспоминания Статьи. Стихотворения читать книгу онлайн
«Тяжелая душа» — впервые издающиеся мемуары Владимира Ананьевича Злобина (1894–1967), поэта, прозаика, публициста русского зарубежья, с 1916 г. литературного секретаря Д.С. Мережковского и З.Н. Гиппиус, а после 1945 г. — хранителя их семейного архива. В сборник вошли статьи, очерки, эссе эмигрантского «Литературного дневника», печатавшегося в парижском журнале «Возрождение», книга воспоминаний «Тяжелая душа» о З.Н. Гиппиус и ее окружении, раритетный сборник «После ее смерти», посвященный памяти Гиппиус, и стихотворения разных лет.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Когда вы умрете, — говорил Философов [267] Мережковским, — вам поставят памятник и напишут: “Они жили и боялись”».
Испуганное поколение.
Но вот что случилось: в один прекрасный день мы перестали бояться. Это вышло как-то само собой. И там, в России, тоже.
Что же дальше? Сначала ничего. Потом Рай.
Раем пугает нас Достоевский — земным. Великим Инквизитором, царством Антихриста. А на самом деле неземным — вечным, потому что какой же рай без «осанны» из груди диавола, а ведь это: «оправдание зла». Страшно.
Но не оттого ли все, что предсказал Достоевский, сбылось и ничего не разрешилось?
«Бог с диаволом борется, а поле битвы — сердце человеческое».
Так было.
Теперь: дипломатические переговоры. Холодная война. И кто поручится, что завтра за нашею спиной не будет заключен между дьяволом и Богом «похабный мир».
Достоевский против этого бессилен. Но он понял «тайну русского коммунизма», которую приоткрыл в «Бесах».
Чем ближе человек к Богу, тем он глубже, и чем от Него дальше — тем более плосок. Эти два движения, две воли все время друг с другом борются, так как человек — неустойчивое равновесие между небом и землей.
Борьба этих двух возможностей присуща всякому подлинному человеку — существу трех измерений. Но есть другие существа, напоминающие человека лишь своим внешним видом, по своей же метафизической сущности принадлежащие к другой категории. Этим ларвам внутренний конфликт между глубиной и плоскостью — чужд, т. к. они плоски по существу.
«Плоские» вечно борются с «глубокими», чтобы их себе уподобить или истребить. На Западе борьба еще продолжается, но кончена на Востоке. Там, в бывшей России, основано первое «Царство плоских».
«Плоские» начали строить и вот воздвигли нечто напоминающее государство, на самом деле, гигантскую машину, род гидравлического пресса, превращающего все, что глубоко и высоко, в абсолютную плоскость.
Сила, приводящая эту инфернальную машину в действие, — жажда равенства, та самая, что движет всеми революциями.
Существование в России «Царства плоских» опасно для всего человечества, т. к. плоские стремятся к мировому господству.
Перед судом (По поводу статьи Н. Ульянова «Десять лет») [268]
В своей пространной статье «Десять лет»* [ «Русская мысль». 1959. № 1328, 1330, 1331. (Перепечатка из «Н<ового> р<усского> с<лова»>.)] Н. Ульянов, отмечая свойственное русской литературе ритмическое чередование эпох стиха с эпохой прозы, говорит: «Если бы не аномалия, именуемая Тютчевым, то после тридцатых-сороковых годов стиха совсем бы не было до самого конца девятнадцатого века. Сейчас по всем признакам тоже время его заката… В наши дни как в эмиграции, так и в Советском Союзе… проза явно не может подняться на должную высоту. Нет прозаиков. Трон остается незанятым». Этим объясняется живучесть стиха в нашем столетии. «Его век, — заключает Ульянов, — продлен не собственной силой, а отсутствием противника. Он живет по милости прозы, не явившейся на дежурство».
На самом деле положение еще хуже, чем изображает Ульянов. Мы живем в эпоху, неблагоприятную не только для изящной словесности, но для искусства вообще. Творческие силы современного человека, без различия национальности, направлены на другое и проявляются главным образом в областях, связанных с социальным строительством, с экономикой, политикой и наукой — словом, со всем тем, от чего для современного человека зависит устойчивость его материального положения. Такие эпохи бывают. Это не значит, что во время войн и революций никто не пишет и не издает книг. Их было очень много, например, в эпоху Французской революции, но до нас не дошла ни одна. То же, вероятно, ждет большинство книг советских, исключая переизданных классиков и двух-трех настоящих писателей. Что же до литературы новоэмигрантской, литературы «последнего ядра», как ее называет Ульянов, то ей нельзя не пожелать успеха, тем более что это — наша «смена». Однако не скрою: отношение Ульянова к вопросу меня смущает. «Это литература семи потов и некоего клятвенного обязательства, — говорит он. — Клятвы у нас даются какие угодно… но никогда не дают обязательства писать хорошо. Ныне без такого обязательства нельзя». Но разве это так уж важно? Косноязычье не страшно, если есть что сказать. Но пустоту все равно не скроешь ничем, никаким стилем:
Главное же, что это — экзамен не на литератора, а на человека.
Мне почему-то кажется — может быть, я ошибаюсь, — что именно в этом вопросе у Ульянова не все благополучно. Иначе нельзя объяснить ту легкость (и жестокость), с какой он расправился с эмиграцией. Он пишет: «Никаких лавров заграница никому не сулит — один терновый венец. Грех староэмигрантского писательства в том, что оно об этом венце и слышать не хотело, гналось за лаврами».
Это не верно. Судьба эмиграции трагична по существу, трагичен уже самый ее факт, и если Ульянов ее тернового венца не видит, то не потому, что его нет.
Самое горькое в нашей судьбе — это что нас осудили оставшиеся на родине друзья. Вот что писала Анна Ахматова:
Мы к Ахматовой были снисходительнее, когда здесь стало известно ее прославляющее Сталина стихотворение [270], мы ее не осудили ни единым словом, только пожалели: «Бедная! Вот до чего могут довести нужда и голод».
Начало трагедии — в России. Отъезд.