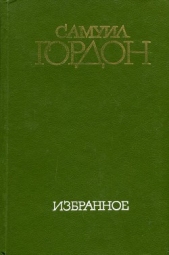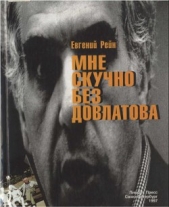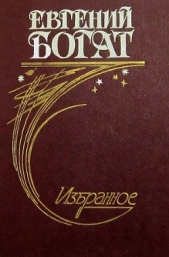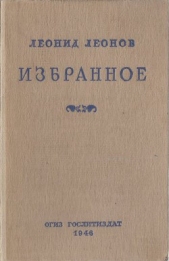Поздним августом, ранним утром,
Перестуки, гудки, свистки.
На балтийском рассвете мутном
то, что прожито, бьет в виски.
Деревянный дом у вокзала,
тьма заброшенных фонарей,
тут вот молодость разбросала
лапу, полную козырей.
Вот и кончились три десятки
самых главных моих годов,
до копеечки, без оглядки…
Ты так думаешь? Я готов
здесь остаться в глухих завалах,
точно выполнив твой завет,
и на этих прогнивших шпалах
изумрудный горит рассвет.
Атлантической солью дует
ветер Балтики и тоски,
на перроне меня целует,
словно у гробовой доски.
Только Оливисте в тумане
пробивается в небеса,
ничего не скажу заране —
лишь послушаю голоса
перестуков, гудков, сигналов,
где-то катит и мой вагон,
и на этих прогнивших шпалах
изумрудный горит огонь.
Я был молод, и ты был молод,
Старый Томас, я старый пес.
О, какой на рассвете холод,
этот август — почти мороз.
Здесь под зюйдом моя регата
разбивала волну о киль,
это было тогда когда-то
и ушло за полтыщи миль.
И пришла, наконец, минута —
ноль в остатке, бывай, прощай,
только, все-таки, почему-то
я скажу тебе невзначай.
Где-то там намекни, явись мне
в страшном августе, в полусне,
раньше смерти, но выше жизни,
брось поживу моей блесне.
Золотою форелью первой
и последней, и здесь беда…
Бледной немочью, черной стервой
падай в Балтику навсегда.
Но не трогай стигматов алых,
все иное — пусто клочок,
ведь на этих прогнивших шпалах
изумрудный горит зрачок.