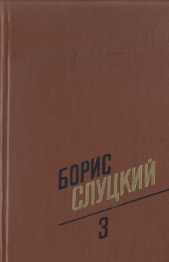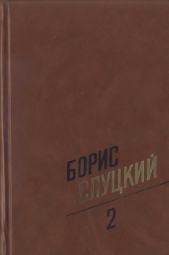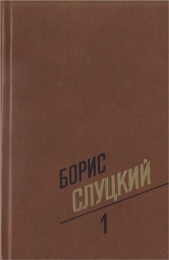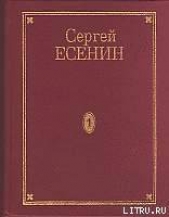Грехи прощают за стихи.
Грехи большие —
за стихи большие.
Прощают даже смертные грехи,
когда стихи пишу от всей души я.
А ежели при жизни не простят,
потом забвение с меня скостят.
Пусть даже лихо деют —
вспоминают
пускай добром,
не чем-нибудь.
Прошу того, кто ведает и знает:
ударь, но не забудь.
Убей, но не забудь.
В загашнике души
всегда найдется
лихая вера
в то, что обойдется,
что выручат,
помогут и спасут,
что Страшный суд
не очень страшный суд.
Вся информация
против того,
но интуиция — вот дура — почему-то
подсказывает: «Ничего!
Устроится в последнюю минуту».
И как подумаешь,
то, несмотря
на логику,
на всю ее амбицию,
нас информация пугала зря
и верно ободряла интуиция,
и все устроилось
в последний час,
наладилось, образовалось,
с какими цифрами подчас
к нам информация
усердно
ни совалась.
О счастливые и невозвратимые
все четыре времени нашей жизни!
Вы не только счастливы —
вы невозвратимы.
Вы — не лето с осенью, зимою, весною:
нет вам даже однократного повторенья.
Вы необратимы, как международная разрядка.
Вы приходите, проходите, не приходите снова.
Все. Точка. В просторечии — крышка.
Детство —
иные выделяют отрочество,
но это только продленное детство,
детство, пора узнавания,
в твоих классах
нет второгодников —
не спеши. Ни к чему торопиться.
Юность — иные выделяют молодость,
но это одно и то же,
юность,
пора кулачной драки с жизнью,—
твои пораженья блаженны
так же, как твои победы.
Этих ран, этих триумфов
никогда не будет больше.
Все твои слезы — слезы счастья,
но это последние счастливые слезы.
Не спеши. Ни к чему торопиться.
Зрелость — пора, когда не плачут:
времени нету.
Время остается только для свершений.
Зрелость,
пора свершений,
у твоей империи оптимальные границы.
Позднее придется только сокращаться.
От добра добра не ищут,
а если ищут — не находят,
а если находят — оно проходит
еще быстрее, чем проходит зрелость.
Не спеши, зрелость! Ни к чему торопиться.
Старость,
счастливейшее время жизни!
Острота воспоминаний
о детстве, юности, зрелости
острее боли старческих болезней.
Болезненно острое счастье воспоминаний —
единственно возможная обратимость
необратимых, как международная разрядка,
трех предварительных времен жизни.
Не спеши. Ни к чему торопиться.
Не спеши. Почему — сама знаешь.
До износу — как сам я рубахи,
до износу — как сам я штаны,
износили меня мои страхи,
те, что смолоду были страшны.
Но чего бы я ни боялся,
как бы я ни боялся всего,
я гораздо больше боялся,
чтобы не узнали того.
Нет, не впал я в эту ошибку,
и повел я себя умней,
и завел я себе улыбку,
словно сложенную из камней.
Я завел себе ровный голос
и усвоил спокойный взор,
и от этого ни на волос
я не отступил до сих пор.
Как бы до смерти мне не сорваться,
до конца бы себя соблюсть
и не выдать,
как я бояться,
до чего же
бояться
боюсь!
Каждый заработок благороден.
Каждый приработок в дело годен.
Все ремесла равны под луной.
Все профессии — кроме одной.
Среди тысяч в поселке живущих,
среди пьющих, среди непьющих,
не берущих в рот ничего, —
не находится ни одного.
Председателю поссовета
очень стыдно приказывать это,
но вдали, километрах в шести,
одного удается найти.
Вот он: всю систему пропорций
я в подробностях рассмотрел!
Негодяй, бездельник, пропойца,
но согласен вести отстрел.
А курортные псы веселые,
вежливые бесхозные псы,
от сезонного жира тяжелые,
у береговой полосы.
Эти ласковые побирушки,
доля их весьма велика —
хоть по капле с каждой кружки,
хоть по косточке с шашлыка.
Кончилась страда поселковая.
И пельменная, и пирожковая,
и кафе «Весенние сны»
заколочены до весны.
У собак не бывает историков.
В бывшем баре,
у бывших столиков,
скачут псы
в свой последний день.
Их уже накрывает тень
человека с тульской винтовкой,
и с мешком,
и с бутылкой в мешке,
и с улыбкой — такой жестокой,
и с походкой такой — налегке.