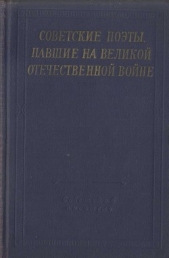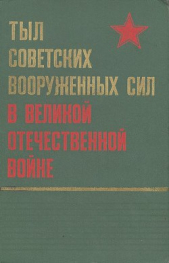Земли, камней, железа груды,
Бессильно сникли провода,
И у руин притихшей Буды
Ворчит дунайская вода.
Мосты упали на колени
И воду из Дуная пьют.
Всю ночь идут соединенья,
И каблуки всю ночь куют.
И вдоль осколками избитых
Колонн монаршего дворца,
Ночною свежестью умыты,
Войска проходят без конца.
Я эту ночь не позабуду.
Вошли мне в память навсегда
Вся тишь ошеломленной Буды,
Дворец и темная вода.
Я эти песни написал не сразу.
Я с ними по осенней мерзлоте,
С неначатыми, по-пластунски лазал
Сквозь черные поля на животе.
Мне эти темы подсказали ноги,
Уставшие в походах от дорог.
Я с тяжким потом добытые строки,
Как и себя, от смерти не берег.
Их ритм простой мне был напет метелью,
Задувшею костер, и в полночь ту
Я песни грел у сердца, под шинелью,
Одной огромной верой в теплоту.
Они бывали в деле и меж делом
Всегда со мной, как кровь моя, как плоть.
Я эти песни выдумал всем телом,
Решившим все невзгоды побороть.
Плющом от света отгорожены,
стоят дома старинной моды:
они из карт как будто сложены —
из красных карт одной колоды.
Я на село смотрю и думаю:
здесь, может, тот фашист родился,
с которым я в бою под Уманью
за смерть ребенка расплатился…
Ко мне рука за хлебом тянется,
и женщина с голодным взглядом
не устает шептать и кланяться…
Я не могу ее — прикладом!
Пускай борьба до бесконечности
мне злом испытывает душу —
нигде закона человечности
в борьбе за правду не нарушу.
Детей не брошу ради мщения
в дыру колодезя сырую…
Не потому ль в конце сражения
я здесь победу торжествую?!
Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б
не жалели.
Мы пред нашим комбатом, как пред
господом богом, чисты.
На живых порыжели от крови и глины
шинели,
на могилах у мертвых расцвели голубые цветы.
Расцвели и опали… Проходит четвертая
осень.
Наши матери плачут, и ровесницы молча
грустят.
Мы не знали любви, не изведали счастья
ремёсел,
нам досталась на долю нелегкая участь
солдат.
У погодков моих нет ни жен, ни стихов,
ни покоя, —
только сила и юность. А когда
возвратимся с войны,
все долюбим сполна и напишем, ровесник,
такое,
что отцами-солдатами будут гордиться
сыны.
Ну, а кто не вернется? Кому долюбить
не придется?
Ну, а кто в сорок первом первою пулей
сражен?
Зарыдает ровесница, мать на пороге
забьется, —
у погодков моих ни стихов, ни покоя,
ни жен.
Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б
не жалели.
Кто в атаку ходил, кто делился
последним куском,
тот поймет эту правду, — она к нам
в окопы и щели
приходила поспорить ворчливым,
охрипшим баском.
Пусть живые запомнят и пусть поколения
знают
эту взятую с боем, суровую правду солдат.
И твои костыли, и смертельная рана
сквозная,
и могилы над Волгой, где тысячи юных
лежат, —
это наша судьба, это с ней мы ругались
и пели,
подымались в атаку и рвали над Бугом
мосты.
…Нас не нужно жалеть: ведь и мы никого б
не жалели.
Мы пред нашей Россией и в трудное
время чисты.
А когда мы вернемся, —
а мы возвратимся с победой,
все, как черти, упрямы, как люди,
живучи и злы, —
пусть нам пива наварят и мяса нажарят
к обеду,
чтоб на ножках дубовых повсюду
ломились столы.
Мы поклонимся в ноги родным
исстрадавшимся людям,
матерей расцелуем и подруг, что
дождались, любя.
Вот когда мы вернемся и победу
штыками добудем —
все долюбим, ровесник, и работу найдем
для себя.