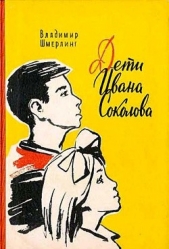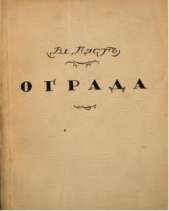Так ничего я и не написал
В тот мой приезд прощальный…
Каштаном над скамьею нависал
Налет зимы хрустальный.
Стихи стояли около меня,
Когда смежал глаза я.
Оглядывался — в сутолоку дня
Сбегали, ускользая.
В пустом Воскресном
Докторская саду,
Где памятник врачам, погибшим
В седом Освободительном году, —
Я был кустом поникшим.
Большие галки стряхивали снег
На ветки и на руки.
Я все ловил минувший день и век
В любом случайном звуке.
Все понапрасну.
Камень все равно
Молчал любою гранью.
Подкатывало к сердцу лишь одно
Далекое страданье…
Я улетел,
Оставив там стихи
Бродяжничать безгласно.
И мучат душу эти пустяки.
Не пустяки! Напрасно…
Я думаю, их кто-нибудь найдет
И даст им оболочку.
Согреются и скажут в свой черед
За строчкой строчку.
И — от меня в далеком далеке —
Заговорят несмело.
Пусть не на русском даже языке,
Не в этом дело…
1975
«Я ехала домой, я ехала домой…» —
Пел в самолете хор цыган,
летевших на гастроли.
А самолет летел в Софию.
Боже мой,
Какие там я знал и доли, и недоли!
Возможно, мой сосед меня и не поймет,
Крахмал воротничка терпя на красной шее.
Но этот самолет, но этот самолет…
А под крылом уже Балкан,
все хорошея.
«Я ехала домой…», «Мы ехали домой»… —
Все репетировали грозные цыганки.
А я припоминал. Я это пел зимой
На улице Султан-Тепе и на Таганке.
Ведь вот какая блажь бывает у судьбы!
Болгария другим как золотая осень.
А я там все зимой, как у родной избы,
Где только в феврале отсыревает просинь.
«Чего они поют? — отжав воротничок
Большими пальцами,
Сосед спросил сурово. —
Там, что ли, дом у них?..»
Я, вынув пятачок,
Подбросил и поймал.
И не сказал ни слова.
Увидев, как взлетел советский мой кружок,
Сосед тепло спросил: «Орел иль решка?»
«Орел! — ответил я. — А ваш вопрос, дружок,
Родной товарищ мой, не более
чем грешка».
«Ты шутишь! — он сказал, узнавши своего. —
Нет слов таких». Была
мила его улыбка.
Я объяснил ему не менее тепло,
Что по-болгарски «грешка» есть «ошибка».
Цыганкам приказал их главный человек
Перед посадкой поберечь
голосовые связки…
А под крылом уже блистал верховный снег.
А я все вспоминал и сказки, и не сказки.
Мы ехали домой, мы ехали домой…
Как много лет прошло
в родстве без окоема.
А я все вспоминал, что все лечу зимой,
Что все лечу домой. Из дома в дом. Из дома.
1975
Балканский сырой ветерок.
Снежок легче пуха и дыма.
Мелькающий, как между строк,
Меж ветками неуловимо.
Я в комнате свет погасил,
И сразу окно осветилось…
Гора заснеженная… Синь
Предутренняя проявилась.
Прозрачный февральский туман
С горы потянулся к предместью
Как знак, а не самообман…
И все это было мне вестью —
И снег, и зеленая высь,
И белый цветок на столе,
И солнечный зайчик, как мысль
О том, что ты есть на земле.
1975
Даже в самой наполненной строчке
Безвоздушные паузы есть.
Не могу из своей оболочки
Выйти так, чтобы без проволочки
От возвышенной буквы до точки
Вы смогли меня сразу прочесть.
Как предвестие бедных седин,
Но с намеком, что все несерьезно,
Иней выбелил белоберезно
Все деревья, глядевшие розно,
Все скамейки, где мы не сидим,
Он исчезнет, и не уследим…
Лишь бы в небо не канули с ним
Те скамьи и деревья виденьем,
Всем пушистым своим загляденьем,
Полуоблачным, полуземным.
Потому и боимся войти
В сферу этого белого сада.
Потому что нам больше не надо,
Потому что мы тоже — почти.
От любви, как от недоеданья,
Полегчали мы в эти свиданья…
Так что сад, отлетев, как дыханье,
Может чудом и нас унести.
От зимы, приключившейся за ночь,
Я узнал ни с того ни с сего,
Что мучительней, чем несказанность,
Я не знал на земле ничего.
Слышу четких пушинок паденье
С воспаривших и замерших куп.
Это кленов и лип наважденья,
Воплощенные в иней виденья.
Это легкое стихотворенье,
Как душа, отлетает от губ.
1975