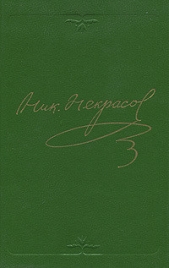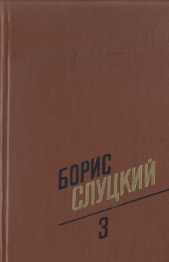Когда ты мир захочешь с ума свести шутя,
Оденься в черный бархат, прелестное дитя,
Предстань, как мрамор белый, с сияющим лицом,
С глазами, что пылают пленительным огнем.
И волосы льняные и белоснежность плеч
Должна ты в черный бархат, красавица, облечь!
Но если хочешь сделать ты лишь меня счастливым,
Оденься в шелк шуршащий с сиреневым отливом.
Тебе придаст он робкий и нежно-хрупкий вид,
Грудь бледно-восковую, улыбку оттенит.
Твой облик станет скромным, застенчивым, сердечным,
Неизъяснимо милым и нежным бесконечно.
Когда идешь ты, мнится: в тебе коварства нет —
Твой смех звучит по-детски и ласков твой привет,
Когда ж ты сядешь, гордо откинувшись назад,
Надменную царицу встречает скромный взгляд…
Стою совсем убитый, когда, собой счастлива,
Передо мною ножкой качаешь ты игриво.
И робкую надежду ты безвозвратно губишь:
О, я отлично знаю, что ты меня не любишь,
Прекрасная такая, влекущая такая,
Здесь на земле под солнцем, как будто неземная.
Меня ты дразнишь взглядом, и смех твой как отрава.
Играть влюбленным сердцем тебе одна забава…
Но большего достоин ли я, чем рок судил,
Чем взор, который в сердце ты, ангел, мне вонзил?
О, смейся надо мною, коль хочешь, так убей —
Одна твоя улыбка, мечта твоих очей
Для мира значат больше, чем эта жизнь пустая…
Коль умереть я должен, умру, тебя прощая.
Кто я? Лишь разум слабый и робкая душа,
О ком никто не спросит, ах, ни одна душа.
И я мечтал когда-то поэтом быть… Стремленье,
Увы, достойно было улыбки сожаленья,
Иронии жестокой!.. О чем еще мечтал?
Хотел, чтобы мой голос был чистым, как кристалл,
Нес людям утешенье и даровал им слух…
Теперь… Теперь я вижу: огонь мечты потух.
При всех моих познаньях, при всем моем уменье
Не воплотить улыбки твоей в стихотворенье.
Погребена ты в сердце моем, но разум хилый
В стихи облечь не может прекрасный облик милой!
И чтоб воспеть всю прелесть божественно-святую.
Иметь бы нужно арфу, но не мою — иную,
Избитыми словами: цветы, лучи, брильянты,
Не описать мне прелесть, достойную лишь Данте.
О, смейся надо мною, ничтожнейшим пигмеем,
Мечтавшим, что на свете мы быть одни посмеем.
О женщина, о ангел, о мрамор белоснежный,
Тебя зажечь хотелось мне искрой страсти нежной!
Ужель в воображенье любовь моя посмела
Считать своим твой облик и сладостное тело?
Безумец я… Так смейся! О, смейся надо мной.
Закрытые глаза мне заволокло слезой,
Чтоб больше мне не видеть уж никогда отныне
Ни строгих черт античных, ни женских плеч богини…
Так жизнь моя проходит в страданье бесконечном,
Хоть взглядом одарила меня одним сердечным.
Но ей любви не надо, ей нужно поклоненье…
У ног ее склоняюсь, как раб, в немом смиренье,
«А что поэт наш пишет?» — уронит вдруг при всех.
Издевка, но блаженство мне даже этот смех,
О, как я был бы счастлив, когда б она хоть раз
Взглянула на того, кто с нее не сводит глаз.
Да, да! Я был бы счастлив лишь словом, лишь улыбкой,
Ведь мне ее улыбка дороже жизни зыбкой.
Но знаешь ли, природа нам жизнь дала, глумясь,
Родится гений редко, все остальные — грязь.
И мне доступно также то восхищенье миром,
Которое когда-то испытано Шекспиром,
Я тоже член той секты несчастных и упорных,
Кто трудится, мечтая о совершенных формах,
Но гений — это гений, велик он сам собой,
А я лишь неудачник, обиженный судьбой!
Обиженный? Но так ли? Несчастным был тот день,
Когда я вдруг увидел прекраснейшую тень?
Скользнувшая улыбка, насмешливое слово, —
Ужели слишком мало богатства мне такого?
Случайный взгляд и ласка, что будет, как отрада,
Всю жизнь до самой смерти — такого мало клада?
Иного я достоин, и требовать я смею?
Хулы мирской не слышу я за спиной своею?
Дано ли мне судьбою, чтоб лирой я потряс
Не век, как те, другие, хоть день, хотя бы час?
Красивые слова я нанизывал уныло,
Рассказывая людям, что близко мне и мило…
Но таково ль призванье поэта во вселенной?
На времени бегущем, как волны, пеной бренной
Убогих слов пытаться изобразить красу
И лунного восхода и шорохов в лесу?
Но сколько б ни писали, и сколько б ни твердили,
Поля, леса — все чудо, такие ж как и были,
Они всегда прекрасней, чем все писанья наши.
Родная нам природа неизмеримо краше
Всех виршей современных с их описаньем серым.
Печальное занятье твердить вслед за Гомером
И прочими творцами известный всем рассказ,
Что лучше был поведан в десятки тысяч раз.
Да, солнце постарело, земля — старуха ныне:
На мыслях и на сердце лежит колючий иней,
Лишь груди в восхищенье приводят юных, нас,
А красоты искусства слепой не видит глаз…
До времени завянув, читаем в пыльной школе
Замасленные книги, трухлявые от моли,
Из умствований скудных, из тощего бурьяна.
Хотим взрастить мы розы иль сочный плод румяный,
В мозгах у нас лишь суммы бесчисленных значков,
Весь мир для нас составлен, из многих тысяч слов,
Невыносимо тесный, он безобразно скроен,
Он фразами украшен и на песке построен,
Бездушный и убогий, он выглядит печальным.
Слепое подражанье твореньям гениальным…
Прекрасные, объемлют они все земли, сферы
Под взором Калидасы, в гекзаметрах Гомера!
Поденщики пера мы. И рифмой и рассказом
Мы злоупотребляем, насилуя свой разум…
Свинец не станет златом… И наши сочиненья
Убогая подделка, не пламень вдохновенья.
Я не кузнец, не пахарь, чья жизнь в трудах сурова.
Я золочу монету фальшивым златом слова,
Разменную монету, медяшки мысли бедной…
Сотрется позолота, и жизнь предстанет медной…
«Прекрасному, — твердят нам, — даст форма воплощенье».
Поэтому к стихам я питаю отвращенье…
Ведь человек обязан всегда быть сыном века,
Иначе он, несчастный, как умственный калека,
Заслуживает только быть запертым в больнице.
Пусть там плетет любые пустые небылицы.
Не вовремя родиться — несчастие твое…
Судьба, увы, дана нам, чтоб проклинать ее.
Но если проклинаешь, то, значит, ты — поэт,
Век пошлости в проклятьях оставит только след.
Между поэтом жалким, что грустно, словно четки,
Слова перебирает, чтоб были рифмы четки,
И офицером с саблей, спесивым и надменным,
Какой быть может выбор? Здесь выбор несомненный!
Он женщин восхищает осанкой и мундиром,
И дева выбирает его своим кумиром…
Права ты, подчиняясь лишь чувственной стихии.
Мудра одна природа, а мы глупцы слепые —
Ведь к страсти побуждает тебя другое тело;
Обнимет он и мнится, что ты помолодела.
Ты не сошла с ума,
Чтоб вместо офицера вдруг избрала сама
Поэта, что ночами не спит, слагая строки
И рифмой окрыляя раздумий смысл глубокий…
Солдат, он легкой шуткой тебя развеселит,
Поэт же слишком робок, насупившись сидит,
Он ловок, как улитка, поднять не смеет глаз
И, прежде чем он скажет, все взвесит десять раз,
Глядит он так скорбяще, вздыхает он, чудак,
И, в кресло погрузившись, все дни проводит так…
Но сколько б ни сидел ты и не глядел уныло,
Ты этим не сумеешь проникнуть в сердце милой.
Что спрашивать с ребенка? Он жаждет развлечений.
Я ж взглядом безнадежным каких ищу видений?
Зачем же звать богиней, и феей, и звездою?
Раз женщиной родилась, то ей не стать иною.
Но все же… Ведь однажды я слышал голос нежный:
«Склонись же головою, несчастный и мятежный,
Чтобы могла тебя я обнять и приласкать!»
Божественная, снова все повтори опять.
Мое воображенье — мой спутник неизменный,
Я вновь живу мечтою, как в сказочной вселенной:
Настанет день счастливый, когда в пустую келью
Ты — дочь, жена, царица — внесешь свое веселье,
Мысль сразу станет ясной, рассеется тоска,
Когда волос коснется моих твоя рука,
Я обернусь невольно и посмотрю назад,
И вдруг земной богини увижу нежный взгляд…
Беги! Что ждет в грядущем тебя со мной, когда
В наш век стихи и рифмы — сплошная ерунда.
Нет, я не принуждаю тебя идти за мной.
Я всех твоих несчастий быть не хочу виной.
Чем быть поэтом, лучше стать просто бирючом:
Сжигая рифмы в печке, мы не согреем дом,
Отдам я даже сердце, чтоб выпила ты кровь,
Нужда — тот лед, который потушит и любовь.
………………………………………………………..
И вдруг ты замечаешь, что ты сидишь со мной,
Дитя, чьи ножки — холод, а губы — летний зной.
И спрашиваешь нежно: «Ты что такой несмелый?»
Ты, наконец, хоть слово услышать захотела.
Ты целый час зевала и ждешь теперь награды:
В любви стихом французским тебе признаться надо.
Ты, наконец, решилась! И чувствую — слегка
Моей руки так нежно касается рука.
Шепчу я еле слышно, плечо твое целуя:
«Ты чересчур прекрасна, и чересчур люблю я!»