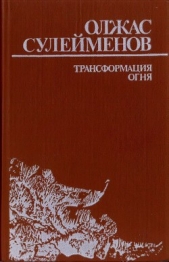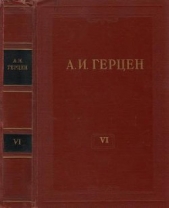Ты знаешь, редактор, что такое Бихар!
Эта земля лежит недалеко от экватора,
эта страна без комбайна и элеватора.
Такыр не измерить ни акрами
и ни ли.
Ты не видел, редактор,
той исхудалой земли.
Февраль — первый месяц сезона дождей,
саун.
Его так ждали в марте индусы,
саун.
И не дождались в апреле,
саун.
Ветер ограбил черную тучу,
выбелил,
саун прошел стороной — океаны выпили.
Листья пальм одиноких опали от зноя, -
саун.
Качается на качелях
девочка в желтом сари…
I
Шли люди, чернее черных теней,
и тяжко им было тащить свои тощие тени
по белой растрескавшейся земле.
Но они не плелись, голодные,— шли
на площадь
послушать
поэта Шри.
Как на индусское самосожжение
шли,
питаться воображением
шли,
не житом единым жить,
пришли
увидеть не Шиву —
живого Шри.
Кости ребер линуют рубашку Шри,
ноги не держат,
падает локоть Шри,
кивает беглая, как ромашка, головка
Шри,
на черном жилистом стебле
в такт шлокам [24].
Сладость в речах — драгоценная мантра.
Зачем она?
Если нет на обед народу
гнилого манго.
Съедены корни сезама [25],
обглодан кикар [26].
Митинг в защиту Вьетнама
в штате Бихар.
Лозунг рисованный виснет на
пальмовой палке,
Шри шелестит
о вьетнамке, сожженной
напалмом,
тысячи недоеданий собратьев — голод,
тысячи непониманий молчащих —- голос.
«Нет в мире каст
иных, —
кроме голодных и сытых,
нет людей раз-
ных,—
кроме живых и убитых.
Хочется есть
нам,
мир тебе, Вьет-
нам».
Демонстрации швеций, даний, америк
не потрясают!
Сыты, по крайней мере.
Шри не протянет и четырех дней.
Эта
умрет ночью.
Слово о ней.
II
Печально, смущаясь своей обреченностью,
полулежит на газете девчонка,
взлетает в небо и возвращается,
как на качелях, она
кончается.
Локтем бессильно—
в щеку Софи Лорен,
И вырывается, око таращит
кинокрасавица,
кажется мне — итальянка локоть кусает,
стройные ноги ее
запутались в желтом сари.
…Шри пел, а я хоронил
свои тощие книги.
Они умирали от истонченья,
хрипели.
О чем мы пишем?
Чем наполняем крики?
Когда нет хлеба в Бихаре,
зачем мы пели?..
Бездарны лиры, фанфары — лживы,
искусство — слепо,
когда у девочки в желтом сари
в глазах нет хлеба.
Ее расстреляет ночью
рисинка,
которой нет,
об этом предупреждает девочку
Шри, поэт,
пока прибудет обоз
из провинций Непала,
ее сожгут индуисты,
но раньше —
вьетнамку напалмом…
Качается на качелях долгот
и горизонталей,
взлетает из Индии,
касается локтем Италии,
долгая ночь приближается,
Шри умолкает,
И возвращается девочка
и улетает.
— Мама, пришли за мной дядю,
саун идет.
— Дядя твой умер, дочка, саун настал.
— Мама, пришли за мной брата, саун идет.
— Братец твой умер, дочка, саун настал.
— Мама, приди за мной, мама,
саун идет.
— Мама твоя не встанет,
саун пришел за тобой…
…На алтаре корчится
девочка в огненном сари,
этим сожженьем окончился
митинг в Бихаре.
Марьям Салганик, Римме Казаковой.
Апрель, Калькутта.
…На краю самого южного мыса Индостанского полуострова мыса Канья Кумарин — белеет скромным мрамором гробница великого непротивленца Ганди. На его долю пришлось пять выстрелов. Пять кровавых пятен на белой рубахе, пять кровавых кругов. Может быть, они подсказали художникам символ мире, который мы видим на белых олимпийских знаменах.
…В спину Ганди стрелял индус, не то националист, не то фанатик.«Сволочь!» — просто охарактеризовал убийцу мой спутник Чаттерджи.
Г. Чаттерджи худ, выжжен зноем до кости. Силуэт его четко отпечатан на экране могильной стены.
В этот день в Америке свершилось насилие — убили негритянского гандиста Мартина Лютера Кинга. Индия почтила его память минутой молчания. 500 миллионов минут молчания. Равно — тысячелетию.
За каждым выстрелом «какой-то сволочи» — века молчания.
…Мыс Кумарин, отбывает закат,
масса красивостей — пальмы
и тодди —
в кубке, отделанном под агат.
Тонкая штопка на бязевом дхоти.
Черные пятки — в твердый песок,
жилы на икрах сухих обозначив,
пьет, проливая пальмовый сок.
Я поднимаю глаза —
он плачет.
Дышит, пульсирует впалый
висок.
«Смотрит на Азию
Белый Глаз!
Небо чужое сглазило Азию,
черная матерь
с каждой оказией
беды свои досылает
до нас.
Азия — схема, стереотип:
голода схима,
холера, тиф.
Неразрешимый живот аллегорий,
прошлое в каждой строке —
редиф.
Смотрит на нас
Белый Глаз
кровью прожилок —
границами каст,
неприкасаемая свобода,
сгорбясь, уходит
в дебри фраз…»
Крашены солнцем заката двери
грустной гробницы,
лица,
слова
громадной далью валит на берег
неприкасаемая синева.
II
В азиях я говорил с тобой,
Глаз Голубой:
в европах встречаются с Карим
и с Черным Глазом —
они меня на площадях искали,
в глуши библиотек,
они мне щедро подвиги сулили
во имя Азии,
страницами мне в душу
боли лили
и в мысли влазили
Конфуций
и ацтек.
Не лучше ли,
отринув имена,
уйти в орнамент
безначальных знаков?
Пить сладкое,
не обижая дна,
любить шенгель,
не предавая маков?
Наитием воспринимая мир,
цвета вещей не утруждая смыслом,
из чистых звуков
сотворив кумир,
смеяться — песнями
и плакать — свистом?
Но хлыст и выстрел
отвечали — нет!
Звук обнажает скрытые смятенья:
и боль и злоба —
каждое явленье
имело
цвет.
Не разобраться в них —
цвета кишели!
Грудь открывая,
обнажая шею,
иди, пока не поздно,
к простоте.
Увериться в неясной правоте
тех, кто не хочет
ни отмщенья
и ни сочувствия к своей судьбе.
Вступаешь в свет,
становишься мишенью
и — поразительно
легко тебе.
Из тьмы огней
Глядит прищурясь мрак,
отсвечивая оптикой прицела.
И свет воспринимается,
как целое.
Делимое наотмашь —
ты и враг.
III
Есть они, Чаттерджи,
в каждой стране,
в каждой волости —
сволочи.
Их не узнать по разрезу глаз,
по оттенку кожи:
может сиять, как якутский
алмаз,
быть на уголь похожим,
плешью блистать в ползала,
прямить и курчавить волос.
Все равно —
сволочь.
Узнать их не просто:
их цвет отличительный —
серость.
Она растворяется в черном,
как в белом и в желтом,
возносится серость бронзой,
блистает золотом,
в темных углах души
собирается серость, как сырость.
Белый стреляет в черного?
Серый стреляет.
Черный стреляет в белого?
Серый стреляет.
Серый взгляд
проникает в сердце,
пронзительный, волчий.
Узнаю вас по взгляду,
серая раса —
сволочи.
Понимаю, пока
в этом самом цветном столетье
невозможны без вас
даже маленькие трагедии.
Невозможны без вас
ни заботы мои,
ни смех.
Невозможны без вас
и победы мои,
и смерть.
Вам обязан — атакой!
В свете полдня
и в холоде полночи
я ищу,
я иду вам навстречу,
серые сволочи —
сквозь мгновенья ошибок,
отчаянных самопрезрений,
чтоб минута молчанья
стала временем
ваших прозрений.
…Синева потемнела.
Гробница великого Ганди
белым куполом
обозначила Азии край.
Багровым оком встала луна
и на мокрые камни
положила сиянье,
и в пальмах возник
птичий грай.