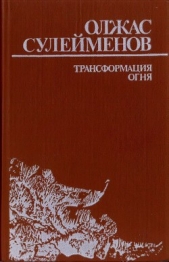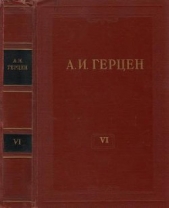Безусловно,
след вот этот —
твой.
Тысячи следов, чего бы ради!
Птичками на белой мостовой,
словно на полях моей тетради.
…Символы моих ночных ошибок,
синие, как на лице ушибы…
Отыщу в толпе лицо любимое,
в словарях найду слова хорошие,
как собак — дорогами избитыми —
за город на свежую порошу,
на поля, от злых пометок
чистые,
там, где снег невеждой не зачитан.
Может, ты лисинкой рыжей —
в горы?
Может быть, волчинкой синей —
в соры [21]?
Может, куропаткой белой-белой
крестики по снегу раскидала?
Улетела тихо за пределы,
в жирные шиповники Китая?
И уже кресты ведут обратно,
в стороны, в обрывы,
в ямы, в горы —
черные вороны для порядка
проходили по полю проторенному,
протараненному, раненому снегу,
смятому, истоптанному страшно.
У крестов вороньих
о тебе я спрашивал,
и кресты мне отвечали:
«Нету».
Снег идет, следов
не оставляя.
В пустых бараках Майданека пахло сырой стариной. Высились под крыши груды обуви, серых волос.
Маленькая газовая камера (30—40 кв. м). Крематорий, сжигавший человек двести в день.
Варвары.
Сегодняшняя техника позволяет мгновенно превратить в пепел все 3,5 млрд. вместе с этими газовыми каморками и крематориями.
и пугали адом.
атом.
Уютное прошлое уже не может повториться в наш веселый и доблестный век.
…Чиновник из люблинского магистрата жаловался на художников. До сих пор не создали подходящего памятника двум миллионам погибших в Майданеке.
«В Бухенвальде, в Освенциме и в других, говорят, уже поставлены, а у нас все еще чешутся».
Он произнес — «тешутся».
Памятник создать трудно. Легче —
сжечь,
расстрелять,
уморить голодом,
чем придумать, «вычесать» глубокомысленную
композицию, которая бы, напоминая, утешала.
И потому, наверное, в художники не каждый,
идет.
Но каким все же должен быть памятник жертвам?..
I
Концлагерь — это не только
труба
и дуб зеленого дыма — в небо.
Это — голая площадь,
это — трава,
которой на площади
нету.
Выискан, съеден каждый вершок —
корешок.
Редкие (через проволоку) листки залетали
из леса кленового осенью.
Их съедали.
Узникам снились, от голода желтым,—
клевер, люцерна, ромашки и желуди.
Тысячи снов клубились над трупами,
сплачиваясь в лохматый стог,
в котором —
полынь и дикий чеснок,
сочный лопух и ревень высокий,
мясистый кактус, типчак и осока.
Этот гербарий был гербом голода.
«Три года после нас не росла трава»,—
в Освенциме и в Майданеке я слышал
эти слова.
II
Рядовой неизвестный концлагерь
близ Ополе-города,
всего 300 тыс. военнопленных,
убитых
голодом.
…Было очень тепло и тихо,
сентябрь, отдых.
Шумели шмели недовольно
в громадных ромашках,
нервный ваятель пил ароматный воздух,
запрокинув лицо,
как из фляжки.
На постаменте — фигура скелетная скомкана.
Этот памятник приз получил
на каком-то конкурсе.
Я должен был восхищаться
великой скульптурой,
ее положением жутким,
ее кубатурой.
Прекрасно набран, впечатан памятник в небо,
скелет читался огромной каракулей —
ХЛЕБА!
(Так пишут стихи, вынося идею в заглавие.
Так громко просят не хлеба,
а славу).
III
Как уже сказано, было тепло и тихо,
глаз, уставший от грома знаков,
жаждал петита.
Дева в траве загорала,
раскинув руки.
Лениво мяла травинку
губами упругими,
алела разлаписто,
как лист,
занесенный ветром
из леса кленового,
который — в двух километрах:
ефрейтор валялся рядом,
лоснясь лакированным поясом ,
довольный,
как будто — по голому полю ползал,
нашел,
приволок, задыхаясь,
любимой узнице
добычу зеленую —
стебель травинки узенький.
Они лежали рядом с запретом «ТРАВУ НЕ РВАТЬ».
Случайно ли это?
Наверное, просто — дерзость,
В скверах и парках мы эти таблички
с детства
привыкли не замечать.
Но здесь — замечательно слово —
нашел свое место действенное
этот петит, уверенный, как невозможность,
(когда-то заставят и станет
любая пошлость
трагически девственной).
Памятником человеку
(логика такова!)
не камень и не железо —
стала
трава.
Выросшая на удобренном пеплом подзоле,
на плоской поляне близ польского града Ополе.
И я ощутил внезапное чувство
утраты —
хочу увидеть
гения из магистрата,
который,
не помышляя о славе,
вбивал в пырей
лучшую эпитафию
жертвам
концлагерей:
«Траву не рвать!»
IV
Художникам нечего делать
на этом поле,
таланты их бесполезны —
они болезненны.
Поле — всего лишь символ
свободной воли,
обыденность здравых запретов —
это поэзия.
Любые запреты наполнены
светом предчувствий,
бессильна фантазия предугадать
их путь,
но кажется мне:
свободное их присутствие
скажется в ходе историй
когда-нибудь.
Я помню и первую заповедь
и еще,
люди не понимают иносказаний,
пока не увидят собственными глазами
закон, воплощенный:
«В историю
вход воспрещен».
Теперь я с тревогой вглядываюсь в запреты.
Их много понаготовили
поэты из горсоветов:
«НЕ ШУМЕТЬ».
«НЕ СОРИТЬ».
«НЕ ВЫСОВЫВАТЬСЯ».
«НЕ ПЛЕВАТЬ».
В казарме одной я видел:
«НЕ ВОЕВАТЬ».
В публичном доме видел;
«НЕ ЦЕЛОВАТЬ».
О, если бы мог запретить магистрат
голодать,
убивать,
изменять,
насиловать,
унижаться.
Художникам лгать запретить бы и
обижаться.
Я бы разрушил все изваянья Плача,
чтоб росла трава после нас,
ничего не знача,
чтоб лежали в траве,
лениво нежась,
любимые,
ничего не зная про то, что они
убитые.
Я бы больным поэтам
прописывал истины,
иносказания — лживы,
они убийственны.
Поле — свободный символ
здоровой воли,
Пройдя сквозь дебри,
мы снова голы
на этом поле.
Зузане Шавырдовой, Иванке Павловой,
Сентябрь. Ополе.