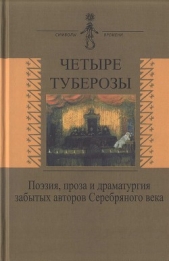И дождь цветов, и дождь лучей,
Дымятся пенные бокалы.
На белом мраморе плечей
Сияют жемчуга и лалы.
И вальс томит, и вальс зовёт,
И в гибком танце вьются маски,
Вмыкает пёстрый водомёт
За парой пару в звенья пляски.
Один лишь жалобный Пьеро
Следит с трагическою миной,
Мелькнёт ли белое перо
Над изменившей Коломбиной?
Вдруг дикий вскрик… И молкнет бал.
Всё глуше медленные скрипки.
И мнится, холод пробежал
И с лиц гостей согнал улыбки.
Вскочив на стол, Пьеро стоял
С нелепо-вычурной отвагой,
Кривится рот, в руке кинжал,
В другой бокал с кипящей влагой.
И время мертвенно текло,
Как взмахи медленные вёсел,
Когда звенящее стекло
Он с тихим стоном на пол бросил.
И долгим вздохом бледный зал
Ответил сдавленному стону,
А тёмно-алый ток бежал
По шутовскому балахону.
И все постигли в первый раз,
Склонясь над вытянутым телом,
Что значит жуть застывших глаз
На лике, вымазанном мелом.
В «Железный перстень» вошли стихотворения, относящиеся примерно к периоду от начала Европейской войны до 1922 года, и, рядом с ними, некоторое количество стихотворений из предшествующего, уже давно разошедшегося сборника «Летучий Голландец» [103].
Сергей Кречетов
I. В ПОЛЯХ ДУШИ [104]
Приветствую тебя, железный перстень мой.
Судьба опять тебя мне возвратила.
Мы виделись не раз, старинный друг, с тобой,
Моя рука тебя носила.
Сподвижник Готфрида, суровый паладин,
Я знал тебя у стен Ерусалима.
Я пал тогда в бою, и видел ты один,
Как в пене конь мой мчался мимо.
Ты сорван был с меня неверного рукой
И сохранён, как память боевая,
И мерила, смеясь, тебя на пальчик свой
В гареме пленница младая.
И вновь, в стране другой, за сладостную трель
Под говор струн, у замковой ограды
Тебя я получил, влюблённый менестрель,
В залог пленительной награды.
Ты помнишь, в ту же ночь, под стрельчатым окном
Ты видел блеск ревнивого кинжала
И слышал краткий стон, и по тебе потом
Струя горячая бежала.
О, сколько разных рук и сколько разных чар
Ты всё менял, холодный и послушный,
Пока однажды мне случайный антиквар
Тебя не продал, равнодушный.
С тех пор, что ты на мне, я чую каждый час
Твою в столетьях скованную силу.
Ты мой, железный друг! Ты мой в последний раз,
И ты со мной уйдёшь в могилу.
Ветра вой! О чём он плачет?
Что протяжный голос значит?
Иль он значит, что отныне никогда не вспыхнет свет?
Мне поёт про тёмный рок он,
И стучится в стёкла окон
Призрак той, кого любил я, призрак той, которой нет.
В нашем доме всё, как было,
Милый образ сохранило.
Глубь зеркал таит виденья белых плеч и стройных рук.
Лишь она, с кем был одно я,
В час тоски и в страстном зное, —
Только шорох, только шелест, только ветра в ставни стук.
Знаю я, твой дух томится,
Как испуганная птица,
Увлекаемая вихрем в даль ночного бытия,
И терзается, и стонет,
Что любимый не догонит,
Что тебя в пустыне вечной никогда не встречу я.
Мне твердят: себя смири ты,
Все пути ещё открыты.
Только как пути без цели, без надежд и без огня?
Прочь, бесплодное витийство!
Грех иль нет самоубийство,
В путь последний не пойдёшь ты одинокий, без меня.
Дальний стон! Я знаю, чей ты.
Пусть поют земные флейты,
Пусть цветы земного мая мне вослед звенят: живи!
Я иду, чтоб в вечном мраке
Лёгким блеском вспыхнул факел,
Факел верной, факел ясной, факел радостной любви.
В столице стерлингов, в угрюмо-душном Сити,
Где в узких улицах неярок солнца свет,
В одном из низеньких домов на Риджент-Стрите
Смущённый, я входил в твой тесный кабинет.
Ряды расчётных книг, ресконтро и гроссбухи,
В чьих цифрах тысяч душ запечатлелся плен…
И мнилось, под стеклом в ловушке бьются мухи,
Докучливо кружа среди прозрачных стен.
Известий биржевых белеющую ленту,
Стуча, струил в углу бессменный телеграф.
Иероглифы цен… Гаити… Нобель… Рента…
Бразильские листы и рудники Эль-Гаф.
Весь в чёрном, ты с лицом, застывшим, словно маска,
Сидел, облокотясь на старый тёмный стол,
И ни одна в лице не трепетала краска,
И ни на миг огонь во взгляде не прошёл.
И весь ты был отлит как будто бы из стали,
А голос твой, как бой часов издалека.
Вдруг, на краю стола, в изогнутой эмали,
Мне бросились в глаза два бледные цветка.
Как! Значит, был и ты ликующим ребёнком.
Как! Значит, знал и ты и шум, и крик, и смех,
И плакал на траве над выпавшим щеглёнком,
И Богу поверял твой первый детский трех.
О, сколько долгих лет слепой, бездушной силе
Пришлось тебя ломать, и унижать, и гнуть,
Чтоб люди навсегда тебя ожесточили
И облекли в гранит твой беспощадный путь.
И молча я смотрел… Но был ты весь из стали,
И голос твой, как бой часов издалека…
А в тонком хрустале тихонько умирали,
Роняя лепестки, два бледные цветка.