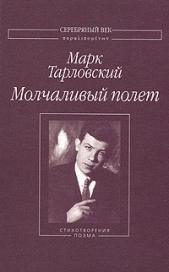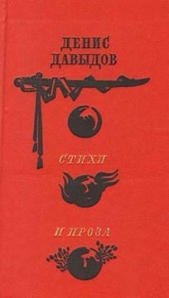Стихотворения
На нашем литературном портале можно бесплатно читать книгу Стихотворения, Тарловский Марк Ариевич-- . Жанр: Поэзия. Онлайн библиотека дает возможность прочитать весь текст и даже без регистрации и СМС подтверждения на нашем литературном портале bazaknig.info.

Название: Стихотворения
Автор: Тарловский Марк Ариевич
Дата добавления: 16 январь 2020
Количество просмотров: 186
Стихотворения читать книгу онлайн
Стихотворения - читать бесплатно онлайн , автор Тарловский Марк Ариевич
Из "Собрания стихов. 1921-1951"
Предисловие и публикация Вадима Перельмутера
Оригинал здесь -
http://www.utoronto.ca/tsq/02/tarlovskij.shtml
и здесь -
http://az.lib.ru/t/tarlowskij_m_a/
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Перейти на страницу:
ИСТОРИЯ ЖИЗНИ
Розой отрочества туманного,
В ожиданьи усекновения,
Голова моя Иоаннова
Вознеслась над садом забвения.
Но как буря страсть Саломеина,
Небо юности хлещут вороны,
Роза сорвана и развеяна
И несется в разные стороны.
А ложится жатвою Ирода,
После боя черными хлопьями,
Где долина старости вырыта
И покрыта ржавыми копьями…
1924
СТИЛЬ "A LA BRASSE"
Не опасна мне жадная заводь,
Не обидна свобода светил:
Липкий гад научил меня плавать,
Плавный коршун летать научил!
Нет, недаром лягушечью силу
И расчетливость хилой змеи
Унесли в торфяную могилу
Заповедные предки мои…
У запруды, в канун полнолунья
Я шагнул и квакунью спугнул
И к бугру, где нырнула плавунья,
Удивленную шею пригнул.
Я учился: я видел: рябая
Округлилась вода чертежом,
И, как циркуль, к луне выгребая,
Мудрый гад мой поплыл нагишом.
Ах! Заманчиво влажное ложе,
И конечности дрожью полны,
Будто я земноводное тоже,
Тоже блудный потомок волны.
Над перилами женской купальни
Я размашистой думой нырял
В ту пучину, где пращур мой дальний
Облегченные жабры ронял;
Я развел твои руки, подруга,
Окунул и скомандовал "раз!"
Ты на "два!" подтянулась упруго,
А на "три!" поплыла "a la brasse".
Дорогая! Поздравим природу:
Стала мифом родная среда,
Ты лягушкой покинула воду
И Венерой вернулась туда!
1928
КАМЕНЬ КААБЫ
В списке всесветных святынь
Спорит с предметом предмет -
Мавры порочат латынь,
Риму грозит Магомет.
Полный тропических жал,
Мастер заразу рожать,
Камень Каабы лежал
И продолжает лежать…
Сотни и тысячи губ, холя холеры змею,
Слюнили аспидный куб,
Смерть целовали свою.
Гурий в раю разбуди,
Горний Господень хорал, -
В долгом священном пути
Смуглый мулла умирал.
Умер, но Мекки достиг,
Лег, отпустив караван,
Стынет в устах его стих
Книги, чье имя - Коран.
Белая сказка пустынь,
Тысяча первая ночь…
Господи, камень содвинь
И помоги превозмочь!
1926
ПАПИРОСА
Голубая душа папиросы
Исчезает под пеплом седым, -
Обескровленный ангельский дым
Разрешает земные вопросы…
Он рядился в табачную плоть
И прозрачную кожу бумаги,
как рядится в мирские сермяги
Потайной домотканый господь.
Но, пылающе-рыжеволосый,
Жаром спички приник серафим -
И прощается с телом свои
Голубая душа папиросы.
1926
ПОЦЕЛУИ
I. В шею
В это утро певучего льда
Нам не видны в умершем прибое
Ни гребные суда,
Ни текучая Троя.
Но жемчужная шея твоя
Мне сказала, что мрамор Елены -
Это только струя
Нерастаявшей пены…
1921
II. В губы
От угла до другого угла
Затекала улыбкою губка
И, голубка, текла,
Как ладья-душегубка.
А влюбленный ее целовал
И дышал над улыбкою кроткой,
Как безжалостный шквал
Над беспомощной лодкой.
1925
МОСКВА
И город - хам, и хамом обитаем.
Что изменилось со смешной поры,
Когда нас царским потчевали чаем
Столицы постоялые дворы?
Февраль 1925
МОРЕ
Хлопочет море у зеленых скал,
Теснит, как грудь, упругую плотину,
Как прядь волос, расчесывает тину
И бьет слюной в береговой оскал,
Как ни один мужчина не ласкал,
Ласкает сушу - томную ундину,
Крутясь, откидывается на спину
И пенит валом свадебный бокал.
За то, что рушит алчущую тушу
На мокрую от поцелуев сушу -
В нем ищут девки из рыбачьих сел -
Покуда бьет по гравию копытом
И ждет их недогадливый осел -
Последних ласк своим сердцам разбитым.
3 марта 1926
НЕВА
Медлительно и вдохновенно
Пульсируя в коже торцовой,
Нева, как священная вена,
Наполнена кровью свинцовой.
Невзрачные в теле линялом,
Невинные синие жилы
По каменным Невским каналам
Разносят сердечные силы.
Но город, привычный к морозам,
Простудных не ведая зудов,
Страдает жестоким неврозом
И острым склерозом сосудов;
По городу каждую осень
Грядет от застав и рогаток,
Швыряет несчастного оземь,
Хватает за горло припадок;
Хрипят от закупорки вены,
И жалобно хлопает клапан,
Гневясь на устой сокровенный,
Где уровень в камень вцарапан.
И, стиснута пробкой заречной,
Как рельсы на дебаркадере,
Венозная бьется со встречной,
С пылающей кровью артерий.
Лейб- медик, гидрограф смятенный,
Термометры с долями метра
Спускает под мокрые стены
И цифрами щелкает щедро.
И каждая новая мерка,
В жару залитая Невою,
С беспомощного кронверка
Срывается четкой пальбою.
"Увы, опускаются руки, -
Лейб- медик смущенно лепечет, -
Вся сила врачебной науки
В гаданья на чет и на нечет…
Я мог вам помочь предсказаньем,
Но где я достану хирурга,
Чтоб вылечить кровопусканьем
Тяжелый недуг Петербурга?"
9 ноября 1926
Перейти на страницу:
Рекомендуем к прочтению