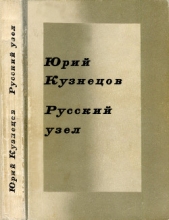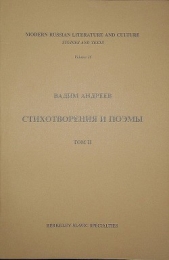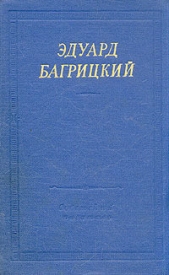Брызги с моря. Забытые виды.
Остановишься в темной тоске.
Все следы, даже старые, смыты,
Гаснет пена на мокром песке.
Только ветер гуляет от веку,
Только волны взрывают песок.
Даже плюнуть нельзя человеку,
Отсечет ему ухо плевок.
В эту пору мелькнул на деревне
Книжный червь — человек городской
И поведал о спящей царевне,
Что выходит из пены морской.
— На деревне дурак заведется,
А на море морской дурачок.
Грянет гром — и царевна проснется, —
Так сказал и шмыгнул — и молчок.
И завелся тотчас на деревне
Сирота — человек никакой.
Он свихнулся на спящей царевне,
Что выходит из пены морской.
Вечерами, когда над простором
Ведьма в ступе летит на луну,
На коленях стоял перед морем
И кричал: «Выходи!» — на волну.
Натаскал он на море собаку
И бродил начеку допоздна.
По его угорелому знаку
Прямо в волны бросалась она.
Дни и звезды текли одиноко,
Только пену пустыня несла.
Иногда выносила собака
То звезду, то обломок весла.
Грянул гром — не твои вороные
Пронеслись до окольной воды.
Чох-машина! Колеса стальные
Поперек оставляют следы.
Глянешь с морды — в отсутствие вводит,
Глянешь с тылу — того мудреней,
А внутри ум за разум заходит —
Чох летит через десять морей!
И «ура» завопил на деревне
Сирота — человек никакой.
И тотчас позабыл о царевне,
Что выходит из пены морской.
С диким лаем собака носилась
Вкруг машины, сужая круги.
— Запирайтесь! Собака взбесилась!
Божья кара за наши грехи!
Встал дурак на высокую сопку,
Одолжил у соседа ружье.
Опрокинул для верности стопку:
«У, собака!» И встретил ее!
Пена бездны из пасти светилась…
Сумасшедший на улице пел,
Как из бешеной пасти явилась
Афродита…
А он не успел!
Не тоскуй по царевне, пехота!
Не пыли на крутом бережке.
Капитан угорелого флота
Приволок ее в старом мешке.
На два стона сосна раскололась,
На два звона — ни свет ни заря.
Он услышал надтреснутый голос:
— Выходи, окаянная фря!
Пал с угора он поступом скорым:
Не старик ли на пенной гряде
С разговором стоит перед морем
И грозит кулаками воде?
— Наигрались мы в детские прятки,
Сорок лет разгонял я туман.
Выходи! Я спалил твои тряпки.
Выходи! — повторил капитан.
— За кого? —
Капитан улыбнулся:
— Вот мешок, коли случай такой. —
И от моря лицом отвернулся,
Старика заслоняя собой.
Но в скале перед ним отразилась
Даль морская до самой звезды,
И нагая богиня явилась
Из струящейся в пену воды.
Все старик, извернувшись, увидел,
Все припомнил и разом забыл.
Вот кого он любил-ненавидел
И на ком свою душу сгубил!
Пойте, пойте, ракушки пустые,
Что лежите в дырявом мешке!
Пойте, пойте про дни золотые
На чужом и родном бережке!
— Не вертись, коли сердце не радо! —
Заскрипел капитан как пила,
Не сводя угорелого взгляда
Со скалы: вот она подошла.
Как заря, ее тело светилось.
— Человек, на меня не смотри! —
Вот шагнула в мешок. Опустилась.
И забрезжил мешок изнутри.
И запели ракушки пустые
Про богиню в дырявом мешке,
Про веселые дни золотые
На чужом и родном бережке…
Подступают, бывало, хозяйки,
Осторожный прибрежный народ:
— Расскажи нам, старик, без утайки,
Много ль горя она принесет?
Отвечает старик горемычник,
Что на солнце сидит у ворот:
— А ее задержал пограничник,
Показания, сволочь, дает…
Брызги с моря. Забытые виды.
Остановишься в тайной тоске.
Все следы, даже свежие, смыты.
Гаснет пена на мокром песке.
1978
На Рязани была деревушка.
В золотые глубокие дни
Залетела в деревню кукушка —
Скромный Филя возьми да взгляни.
А она говорит: — Между сосен
Полетаем, на мир поглядим
И детей нарожаем и бросим,
На край света с тобой улетим.
О дороге, о жизни, о смерти
Поведем мы потешный рассказ.
Будут слушать нас малые дети,
Мудрецы станут спорить о нас. —
Думу думал Филипп — что за птица?
Взял ружье да ее пристрелил.
Стали сны нехорошие сниться,
Помечтал он и хату спалил.
При честном любопытном народе
Свою душу не стал он смущать.
Поглядел — куда солнце заходит —
И подался край света искать.
Две войны напустили тумана,
Слева сабли, а справа обрыв.
Затянулась гражданская рана,
Пятилетка пошла на прорыв.
Был бы Филя находкой поэта,
Да построил он каменный дом
И завел он семью… а край света —
На Руси он за первым углом.
Два сына было у отца —
Удалый и дурак.
Увы, не стало храбреца,
Бывает в жизни так.
И слух неясный, как туман,
Поведал эту грусть,
Что за свободу дальних стран
Он пал со словом: «Русь!»
Семья сходилась за столом,
И жечь отец велел
Свечу на месте дорогом,
Где старший сын сидел.
Бросала редкий свет она
На стол и образа.
То глупость младшего видна,
То матери слеза.
Недолго младший сын гадал,
Раздался свист друзей,
Уехал и в Москве пропал
По глупости своей.
Была ль причиной дама пик,
Иль крепкое вино,
Или свалившийся кирпич —
Теперь уж все равно.
«Вертайся, сын… У нас темно», —
Писал в письме отец.
Нераспечатанным оно
Вернулось наконец.
На нем (в окне померкнул свет!)
Стремительной подошвы
Запечатлелся пыльный след,
На облако похожий.
Знать, наугад одной ногой
Попал глупец сюда,
А в пустоту шагнул другой —
И сгинул навсегда.
Еще свечу!.. На две версты
Сильнее свет пошел.
Как от звезды и до звезды,
Между свечами стол.
И два живых лица в ночном,
Два в сумраке ночном.
И скорбь застыла на одном,
И мука на другом.
И этой муки не могла
Родная превозмочь.
О, далеко она ушла!
И наступает ночь.
О чем, о чем он говорит,
Один в ночном дому?
Еще — одна свеча горит.
О, как светло ему!
Горели три большие зги,
И мудрость в том была.
Казалось, новую зажги —
И дом сгорит дотла.
Старик умел считать до трех,
И мудрость в том была.
Не дай и вам до четырех,
Четыре — это мгла.
Когда о жизни говорят
И речь бросает в дрожь,
Три слова правильны подряд,
А остальные ложь.
Единство только трем дано,
И крепость им дана.
Три собеседника — одно,
Четвертый — сатана.
Три слова только у любви,
А прочие излишек.
Три раза женщину зови,
А после не услышит.
С распутья старых трех дорог
По родине несется
Тот богатырский русский вздох,
Что удалью зовется.
Взлетали бабочки из мглы
И шаркали о боль.
Клубились, бились об углы
Огневки, совки, моль.
Бросали свечи вперемиг
Три исполинских тени.
Троился сумрачный старик —
Спиной к моей поэме.
Оставь дела, мой друг и брат,
И стань со мною рядом.
Даль, рассеченную трикрат,
Окинь единым взглядом.
Да воспарит твой строгий дух
В широком чистом поле!
Да поразит тебя, мой друг,
Свобода русской боли!
Зарытый в розы и шипы,
Спит город Тихий Зарев —
Без ресторана, без толпы,
Без лифта и швейцаров.
Над ним в холодной вышине
Пылают наши звезды,
Под ним в холодной глубине
Белеют наши кости.
Косматый Запад тучи шлет,
Восток — сухую пыль.
И запах мяты ноздри жжет,
В ушах шумит ковыль.
В нем жили птицы и жуки,
Собаки и трава,
Стрекозы, воздух, пауки,
Цветы и синева.
Летели мимо поезда
И окнами смеялись.
Шла жизнь, но люди, как вода
В графине, не менялись.
Московский поезд! Тишина.
Неслышно вышли трое:
Мужчина, женщина — она
С ребенком. Стороною
Повеял ветер и затих,
Была заря пустынна.
— Вот дом родителей моих! —
И дверь толкнул мужчина.
Спина. Ночное существо
На бледном полусвете.
— Как жизнь, родитель?
— Ничего, —
Ему старик ответил.
Что в этом слове «ничего» —
Загадка или притча?
Сквозит Вселенной из него,
Но Русь к нему привычна.
Неуловимое всегда,
Наношенное в дом,
Как тень ногами, как вода
Дырявым решетом.
Оно незримо мир сечет,
Сон разума тревожит.
В тени от облака живет
И со вдовой на ложе.
Преломлены через него
Видения пустыни,
И дно стакана моего,
И отблеск на вершине.
В науке след его ищи
И на воде бегущей,
В венчальном призраке свечи
И на кофейной гуще.
Оно бы стерло свет и тьму,
Но… тайна есть во мне.
И с этим словом ко всему
Готовы на земле.
— Иван! — опомнился старик,
Не видя никого.
Пред ним ли старший сын стоит
Или сморгнул его.
— Я не один, — сказал Иван, —
Жена и сын.
— Откуда?.. —
Пришел ли гул далеких стран
На родину, как чудо?
Старик не мог судьбы понять,
Стоял и грезил ими.
— Мария! Дочка! Дай обнять…
А это кто?
— Владимир.
Итак, Владимир… Мысль спешит
О нем сказать заране.
Пространство эпоса лежит
В разорванном тумане.
К чему спешить? В душе моей
Сто мыслей на весу.
У каждой мысли сто путей,
Как для огня в лесу.
Во мне и рядом тишина,
Огни и повороты.
Душа темна, душа полна
Трагической дремоты.
Пустынный стол гостей не ждал,
Старик нарезал хлеба.
— А ты свободу людям дал?
— Нет, но открыл им небо. —
Бегущий мальчик на дворе!..
О, детство, не спеши.
Как шелест листьев на траве,
Простая жизнь души.
Владимир искрою бежал
Поверх цветочной пены.
И шелест листьев возвышал
Угрюмый слух поэмы.
Сиял травы зеленый свод,
Смыкались облака,
Цикады час, кукушки год
И ворона века.
Петух свои хвалы кричал
Шесту и небесам.
— Который час?.. —
Старик ворчал
И подходил к часам.
Он щупал стрелки, циферблат,
Не видя цифр уже.
Глухой эпический раскат
Боль порождал в душе.
Старинный бой, поющий храп
Дом изнутри заполнил.
«Чу, время, чу!» — махал старик,
И это внук запомнил.
Пространный крик кукареку,
В нем слышен скрип цикады,
Кукушки дальнее «ку-ку»,
И ворона раскаты,
И треск отсохшего сучка,
И промысел органа,
И боль согбенного смычка,
И рокот океана.
Зеркален крик, зеркален крик,
Вот новое мышленье!
Девичий смех, предсмертный хрип
Находят выраженье.
В нем кровь и радость, мрак и гул,
Стихия и характер,
Призыв на помощь: «Караул» —
И пение проклятий.
Сорви покров с расхожих мест —
И обнажится дно.
Сарынь на кичку, круг и крест
Заголосят одно.
— Часы! — раздался в доме крик. —
Часы остановились! —
Руками вдаль глядел старик —
Концы ногтей слезились.
Роилась бабочка в окне
Неизгладимым звуком.
Ребенок гордо в стороне
Стоял с кленовым луком.
Иван вошел и кинул взгляд:
Из часовой тарелки,
Пронзив кинжально циферблат,
Торчали обе стрелки.
— Зачем ты делал это зло? —
Спросил у мальчугана.
— Я не хотел, чтоб время шло! —
Ответ потряс Ивана,
И он задумчиво сказал:
— Не знаю, он из добрых. —
(И головою покачал.)
Но это был бы подвиг —
Мир сделать вечным. Да, малыш,
Хотел добра ты, верю.
Но этим смерть не отразишь,
И грань уже за дверью.
Старик с постели встал чуть свет —
Земле отдать поклон.
С крыльца взглянул на белый свет,
А воздух раздвоён.
Земная даль рассечена,
И трещина змеится;
Цветами родина полна,
Шипеньем — заграница.
«Мир треснул», — Гамлет говорил.
Он треснул наяву
Через улыбку и ковыль,
Сарказм и синеву.
Через равнину и окно
Пролег двоящий путь,
Через пшеничное зерно,
Через девичью грудь.
Разрыв прошел через сады
И осень золотую,
И с яблонь падают плоды
В ту трещину глухую.
Мне снилась юность и слова…
Но старику не спится.
Дрожит седая голова,
Как ветвь, с которой птица
В небесный канула простор,
А та еще трясется…
Однажды вышел он во двор
И не увидел солнца.
— Иван, где солнце? — прохрипел. —
Али я встал стемна? —
Солдат на солнце поглядел.
— Отец, отец, война!
Старик сказал: — Мне снился сон,
Я видел Русь с холма:
С Востока движется дракон,
А с Запада чума. —
Дубовый лист, трава-ковыль
Ответили ему:
— Восточный ветер гонит пыль,
А западный чуму.
Окно открыто на закат,
На дальнюю сосну.
Я вижу вороны летят,
Не в ту ли сторону?
Европа! Старое окно
Отворено на Запад.
Я пил, как Петр, твое вино —
Почти античный запах.
Твое парение и вес,
Порывы и притворства,
Английский вкус, французский блеск,
Немецкое упорство,
И что же век тебе принес?
Безумие и опыт.
Быть иль не быть — таков вопрос,
Он твой всегда, Европа.
Я слышу шум твоих шагов.
Вдали, вдали, вдали
Мерцают язычки штыков.
В пыли, в пыли, в пыли
Ряды шагающих солдат,
Шагающих в упор,
Которым не прийти назад,
И кончен разговор!
Пускай идут, пускай идут
В твоей, о Русь, пыли.
Они всегда с тебя возьмут,
Что тень берет с земли,
Что решето с воды берет,
Что червь берет с небес.
Народ и ненависть, вперед!
Чуме наперерез.
Дым тихой родины скорбит,
Боярышник застлав.
Состав на станции стоит,
Закрашенный состав.
Сквозь город — был подобен он
Слезящейся скале —
Толпа струилась на перрон.
В немыслимом числе
Мелькали головы, платки,
И речи не смолкали,
Текли, дробились ручейки —
И слезы в них стояли.
Мерцало скопище людей.
Стремглав ходил баян
Туда-сюда среди локтей:
Степанчиков Степан
«Калинку» матери играл,
Но та молчала странно.
Старик во тьму поцеловал
Безмолвного Ивана.
Жена заплакала. Прощай!
До смертного конца
Не опускай, не опускай
Прекрасного лица.
Не говори! Любовь горда!
Не унижай былого.
Пускай умру, но и тогда
Ни слова! О, ни слова.
Придет из вечной пустоты
Огромное молчанье,
И я пойму, что это ты…
Сдержала обещанье.
Гудок — и дрогнула скала,
Блеснул излом разлуки.
Текли глаза, глаза, глаза,
Струились руки, руки,
Махал перрон, махал состав,
В руках рука тонула.
От тесноты один рукав
Задрался — и мелькнуло
Стенанье — «Не забуду мать
родную!» — на руке.
Владелец выколол, видать,
В мальчишеской тоске.
Ответный вопль пронзил туман,
А чей — не разобрать.
Прощай, Степанчиков Степан!
Узнала руку мать.
Мелькали мимо поезда,
Гудя на поворотах, —
Туда-сюда, туда-сюда:
Так на конторских счетах
Костяшки мечет инвалид,
Ведя расход-приход:
Ушел, пришел, летит, лежит —
Контора знает счет.
Число, ты в звездах и в толпе!
Огонь сечешь и воду.
Сквозняк зеркал сокрыт в тебе.
Герой, скажи народу —
И слово тысячами лиц
Мгновенно распахнется.
«Назад ни шагу!» — Этот клич
По родине несется.
Еще не вся глава, мой друг,
Одну черту, не боле.
О младшем сыне ходит слух,
Как перекати-поле.
Закон не писан дураку,
А случай и судьба.
Состав, идущий на Баку,
Щелкнул его сюда.
— Отец! — он кликнул старика,
Шагая напрямик
Через забор. — Встречай — Лука. —
И задрожал старик.
Не голос чей ли прозвенел?
О, это голос редкий…
Иссохший ясень зеленел
Единственною веткой.
Лука вернулся наконец —
Скиталец недалекий!
И руки вытянул слепец.
— Ты где? —
А мир широкий.
Уж сын под ясенем стоит.
К нему навстречь пошел
И — обнял дерево старик
И гладил долго ствол.
— Ты вырос, вырос, сосунок.
Ты вспомнил об отце.
Ты где гулял? Сынок, сынок…
Морщины на лице!
Он погулял, он погулял
У самой крутизны.
И тоже к дереву припал —
С обратной стороны.