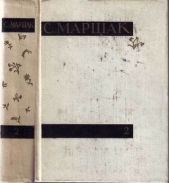Погаснет жизнь, но я останусь: Собрание сочинений

Погаснет жизнь, но я останусь: Собрание сочинений читать книгу онлайн
В книге впервые собрано практически полностью поэтическое и мемуарное наследие выдающегося писателя "второй волны" русской эмиграции Глеба Александровича Глинки (1903-1989). Представитель одного из уничтоженных течений советской литературы, группы "Перевал", учитель поэта Николая Глазкова, Глинка жил в довоенном СССР в ожидании ареста, пока не разразилась война. Писатель был призван в "ополчение" и осенью 1941 г. попал в немецкий плен. Судьба поэта сложилась необычно: в СССР его считали погибшим, но он был освобожден союзниками, уцелел, жил сперва в Бельгии, позже в США, где влился в поток эмигрантской литературы и писал до конца жизни.
Помимо примерно двухсот стихотворений, книга содержит впервые публикуемый полный текст книги "На перевале" и избранные статьи о литературе.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
После двухсот граммов водки он оживился и вспомнил, как в позапрошлом году он снова приезжал в загорские края. В Кудрине обучал молодежь ковшечному делу.
– Пять месяцев прожил там и платили мне зря много. Шестьсот платили в месяц. Мне в Кудрино письмо прислал Горький, чтобы к нему приехал обязательно, и адрес прописан был. Прочитали мне письмо, а я попросту положил с конвертом на окошко, кто-то и прибрал его к рукам. Остался я без адресу. Ну, знаю, в Москве всякий объяснит, где Горький квартирует. Только тем временем не удосужился срядиться к нему. Всё думаю, для Максима Горького надо ковш сделать, какого не было. Потом слышу, помер он. Так и не пришлось поглядеть…
Я спросил Ершова о Богородской промартели. Оказалось, что он ни разу не побывал там, но о резчиках богородских слышал и вещи их видел в Загорском музее.
– Побывать не пришлось. При Миколае мечтал, хоть тайком как-ни-то. Живность делают хорошо. Поучиться можно. На ковши в аккурат бы пришлась их живность.
Я сообщил Ершову, что давно ведутся в наших журналах разговоры о встречах народных художников для обмена опытом. И уж резчикам-то, мне думается, совершенно обязательно знать друг друга поближе, а не только понаслышке. Тут же мы с Антипом Ермиловичем порешили устроить в ближайшее время знакомство семеновцев с богородчанами. Я советовал для первого визита собраться втроем или вчетвером. Конечно, прежде всего, Ершов, затем Абрамов и еще одного или двух из молодежи. Антип Ермилович одобрительно кивал головой, но под конец, как бы между прочим спросил:
– А может, всё же, лучше мне одному побывать в Богородской?..
В Москве председатель правления Всекомпромлессоюза Викентий Михайлович Калыгин обещал организовать поездку семеновских ковшечников к богородчанам. Он напишет письмо с вызовом мастеров в Москву и договориться с Союзигрушкой о встрече в Богородской промартели.
Казалось, все было улажено. Но прошел месяц, другой, прежде чем Ершов, Абрамов и молодой деяновский ковшечник Угланов появились в Москве.
Вечером семеновцы были у меня и пили чай.
– Номера в гостинице не достали нам, будем ночевать в кабинете Калыгина, — сказал мне на прощанье Абрамов.
В десять часов утра мы должны были встретиться на Северном вокзале.
Едва я вышел из вагона метро, как увидел всю семеновскую бригаду в полном составе.
– Нравится метро? — спросил я Антипа Ермиловича, заметив, как жадно он бросает свои косые взгляды по мраморной облицовке стен.
– Умственно сделали, — закивал Ершов. — Больно гоже умудрились.
В поезде мастеров клонило в дрему. Абрамов совсем клевал носом. Оказалось, что ночевали они на улице.
– Очень просто получилось. Не достучались мы, – пояснил Угланов, — Видно, заснул сторож. Стучали, что есть мочи, и пропуск имелся у нас. Пришлось мерить Неглинну улицу до семи утра, а вернуться к тебе постеснялись.
Угланов рослый, темноволосый, с крупными чертами лица. Ему двадцать семь лет. Он племянник Ершову по жене. «Выученник мой» — рекомендовал его Антип Ермилович.
– Промерзли, должно быть?
Ершов вздохнул и тревожно зашептал, склоняясь к нашей скамейке:
– Мороз был невелик… Одежда справная, и чесанки, и полушубок, все ладно бы, да припаиваться начали жулики к сам. Сообразили, что из деревни мы. «Прикурить дозвольте», обхаживают, смотрят, как чего попользоваться от нас. Пьяным один прикинулся, заводит разговор, а сам стреляет глазами. Видим дело обертывается опасное. Подались к трамвайной остановке. Абрамов с Михаилом на трамвае всё же покатались, а я так и дежурил у фонаря.
От Москвы до деревни Богородской всего каких-нибудь девяносто километров. Но дорога длинная. В Загорске пересадка на заводский поезд. А от завода до деревни еще семь километров.
Мы выгрузились у заводского вокзала только к пяти часам вечера. Шли долго по заснеженным тропинкам над замерзшей рекой, и уже в сумерках карабкались на крутую, поросшую кустарником гору перед самой деревней.
– Что-то не вижу я здесь большого лесу, — рассуждал Абрамов. — Наш Антип всё хвалил, что под Загорском лесу много. Дескать, что ваши семеновские леса, вот в Загорском лес, так лес.
На утро решили собраться в чайной, это будет первое знакомство мастеров, беседа за чашкой чая, предваряющая совместную работу. Семеновцы приехали сюда не для одних разговоров. У них с богородчанами прямое и самое крепкое родство, кровное родство по мастерству. Резчики разных районов, едва знавшие друг друга понаслышке, веками работали в своих углах над одним и тем же материалом. Художественный и технический опыт накапливался параллельно, но ни разу в истории народного искусства не произошло непосредственного соприкосновения этих двух однородных промыслов. И если в дореволюционное время Антип Ершов сумел как-то вырваться из паучьих лап местного воротилы Пирожникова и пробраться в Сергиев, то это было делом его собственной одаренности и смелости, личным подвигом. А деревня Богородская, до которой от Сергиева не многим больше двадцати километров, до наших дней оставалась его несбыточной мечтой.
Ершов приехал выведать все особенности богородской резьбы, он не пропустит ни одной технически полезной мелочи. Угланов твердо решил поучиться у здешних мастеров, и даже Исаак, который постоянно гордится, что никогда он ничему и ни у кого не учился, внимательно прицеливается своим единственным глазом, исподтишка соображая, чего бы перенять поскорее и не отстать бы от наблюдательности Антипа и молодой прыти Угланова.
– Поработаем здесь дней хоть пятнадцать, пусть они поглядят, как делать ковши, – может и пригодится им, а нам все же интересно живность у них перенять. Их работа тоньше, потому что струмент много деликатнее нашего, — оправдывающимся тоном говорит Абрамов.
Но руководство Промколхоза никаких уведомлений из Москвы не получило и потому ко встрече относится с величайшим равнодушием. Председатель Казанов уехал в Загорск, а заведующий производством Василий Петрович Пучков полон собственного достоинства, не хочет пальцем шевельнуть для этой нелепой, по его глубочайшему убеждению, затеи. Пучкова я хорошо помню. Белесый, плотный, с соломенными усиками и с самодовольным широким подбородком дельца, он все тот же, деревянный, напыщенный, скучный, давно претерпевшийся к неполадкам и недочетам артели. Он пересидел здесь не один десяток председателей, насчитывает двадцатилетний стаж, но знает только товар и с олимпийским спокойствием относится к живым запросам мастеров. Годовой план артель сейчас вывозит только на серой игрушке. Хотя, по какой-то неведомой самому Пучкову инерции, некоторых лучших художников еще пытаются совершенно искусственно удержать на высоких образцах. Им просто не дают резать рядовой товар. Но проку в этом
мало. От подобных установок квалифицированные мастера теряют в заработке и вынуждены вместо двух лошадей в день делать четыре. Таким образом, сегодняшние звери, фигуры и птицы вырождаются с катастрофической быстротой. Но как бы ни старался тот же Пронин «хламить» своих зверей, он не в состоянии догнать молодежь, которая зарабатывает в два, в три раза больше на головке шахматного коня или на кузнецах, где высокая квалификация совершенно не обязательна. В результате лучшие мастера бегут на сторону. Распыляются по другим районам, уезжают в Ленинград, работая там не по прямой специальности, занимаясь той же головкой шахматного коня, которую не дают им резать у себя в артели, они, по крайней мере, обеспечены хорошим гонораром. Шахматные артели Наро-Фоминского района взяли к себе богородчан на высокий оклад с тем, чтобы они выучили местных токарей делать коня. А молодежь, окончившая богородскую профтехшколу, тотчас бросается на серую игрушку, и вскоре теряет приобретенную технику, так как практически она оказывается бесполезной в их чисто ремесленном труде.
Богородский склад завален серой игрушкой. Тут выродившиеся до неузнаваемости кузнецы, молотки которых не попадают в наковальню, а фигуры — своим бесформенным обликом похожи на Василия Петровича Пучкова, головки шахматных коней, утерявшие все пропорции; упряжки с розвальнями, сляпанные из грубо обтесанной лучины; птицы — неряшливые и зашкуренные, точно склеенные из теста, и очень немногочисленный ассортимент животных, носящий порочные следы великой спешки. На складе нет ни одной тщательно выполненной игрушки. Что же найдут здесь семеновские мастера, где тут хваленная богородская живность?!