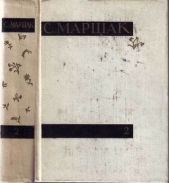Погаснет жизнь, но я останусь: Собрание сочинений

Погаснет жизнь, но я останусь: Собрание сочинений читать книгу онлайн
В книге впервые собрано практически полностью поэтическое и мемуарное наследие выдающегося писателя "второй волны" русской эмиграции Глеба Александровича Глинки (1903-1989). Представитель одного из уничтоженных течений советской литературы, группы "Перевал", учитель поэта Николая Глазкова, Глинка жил в довоенном СССР в ожидании ареста, пока не разразилась война. Писатель был призван в "ополчение" и осенью 1941 г. попал в немецкий плен. Судьба поэта сложилась необычно: в СССР его считали погибшим, но он был освобожден союзниками, уцелел, жил сперва в Бельгии, позже в США, где влился в поток эмигрантской литературы и писал до конца жизни.
Помимо примерно двухсот стихотворений, книга содержит впервые публикуемый полный текст книги "На перевале" и избранные статьи о литературе.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Дома, в Деянове, крошки хлеба проглотить не мог. Днем ничего – тихо, а к вечеру слышу голоса, вызывают меня; ухват от печки возьму – и на улицу. Ударю по телеграфному столбу, загудит столб. Мне представляется, что сигнал подают, будто тридцать тысяч мне пришло в банк, в Семенов. Приду, постою – и обратно в Деяново. Много чудил. С десяти часов вечера и до утра разговаривал с котенком, молоком поил и его в Семенов брал с собой в сумке. А потом вижу, он тоже восстал против меня. Курицу не зарезывал всю жизнь, а котенка убил и на крыше подвесил к трубе. И с этого стал ночью топор класть при себе. Отец с матерью позвали кузнеца. Пробой вбили в стену и посадили меня на чепь. Сами ушли в другую избу. Шесть недель просидел я на чепи. Знахарь ходил читать надо мной и масло мне давали пить постно, начитанное. Корову пролечили. Ну, соображаю, что читал он зазря, а масло стало смягчать меня, потому жил не емши. Засмирел я совсем и через шесть недель стал просить, чтоб дали мне нож. Потянуло на свою работу… Более двадцати лет прошло с того времени, и бросил я пить водку. Для компании выпивать могу, а пить бросил совсем…
В Семенове жил я целый месяц. Подлинная хохломская роспись – конечно, не та модернизированная, которую мы видим в табачных магазинах Москвы, а истинная народная трава и ягодка, – чарует всякого, кто знает работа Кузнецовой, Красильникова, Подоговых и многих других искусников кисти. И совершенно замечательно, что в самом Семенове почти всё население города состоит из художников хохломской росписи. Недавно открыт здесь хороший музей кустарных изделий. Серьезно работает молодежь профтехшколы. Но, к сожалению, хохломская роспись диктует свои непреложные законы не только мебельщикам и токарям, а также резчикам. Среди семеновской молодежи были мастера плоскостной геометрической резьбы, сейчас они оказались не у дел и перешли на роспись, с последних ков шей Антипа Ершова совсем исчез резной орнамент всё здесь для Хохломы и под Хохлому.
В Ложкосоюзе я видел несколько вещей Абрамова, резанных из мореного дуба, но оказалось, что теперь ему предложено снова перейти на осину и тополь, подчиняя свои творческие замыслы основному заданию — резать белье под окраску. А Исаак Абрамов прежде всего интересен своими исканиями. Он далеко еще не первоклассный мастер, но, несомненно, у него какой-то свой, пока еще не окончательно определившийся путь. Родовые традиции в его работах чувствуются меньше, чем у самых молодых деяновских ковшечников, но спасает выдумка и темперамент. Когда я навестил его чистенький домик, Абрамов резал крокодила.
Метровый крокодил с брюхатым долбленным со спины в виде вазы или ковша туловищем злобно сгибал несоразмерно короткий хвост и зубастой разинутой пастью заглатывал неведомого мне зверя, который откормленными, торчащими из пасти крокодила
окороками скорее всего напоминал йоркширского поросенка.
Низкорослый, слабогрудый Абрамов присел на корточки. Плечи его опустились, бледное бритое лицо, изъеденное оспой, вытянулось, единственный серый глаз смотрел растерянно и, казалось, мастер был испуган собственным произведением.
– Сам я не видывал крокодила, — говорит он, – когда был в Москве, нарочно ходил в зоопарк и не нашел его. А поглядеть бы надо. Я своего из книжки снял, с рисунка. У детишек книжица такая есть. Про охотничьи выдумки, для смеху. Как, значит, Мюнхгаузен ото льва спасался, да напхнулся на крокодила, сам в сторону, а лев и заскочил в крокодилову глотку.
– А лев у тебя сытый получился.
– Это пока хвост не вделан. Хвост приделаю, тогда выйдет похоже на льва, — невозмутимо отвечает Абрамов.
Исааку Тимофеевичу Абрамову тридцать семь лет. Он сын ложкаря. В юности делал ложки. Ковшами взвозцы не занимались. Потом отстал от ложкарного дела. Года три был лесником и вот недавно начал резать — сразу поразил руководителей Ложкосоюза своим раком из мореного дуба.
Голова Исаака Абрамова острижена коротко, по-мальчишески. Волосы пыльно-пепельного цвета. На нем москвошвеевский костюм. Он неуверенно тычет пальцем в долбленную утробу крокодила и говорит о просушке тополя.
– Делаем из сырого, мягче он, сырой, а как сушить поставишь, гнет его. Дуб гнет с коры на сердце. Осину и тополя загибает от сердца к оболони.
Из-за печи выбираются два мальчугана, сыновья Абрамова, белоголовые, круглые и краснощекие. Одному пять, другому семь лет. Они останавливаются перед отцом, сидящим на полу, и скептически смотрят на крокодила. Младший со вздохом произносит:
– Сделал незнамо что.
– Ну, ну, ступайте гулять, — ворчит Исаак.
Он поднимается, открывает застекленный шкаф и сует ребяткам конфекты. Избавившись от малолетних критиков, он говорит о мореном дубе. По Керженцу много мореного дуба. Только пилить его трудно. Целиком не откопаешь и приходится пилить под водой. Пилу для такой работы нужно насаживать на длинные рукояти. Резать из дуба тоже мудрено. Крепкий он и скалывается легко.
Потом Абрамов надевает ватный пиджак и ведет меня смотреть Керженец. Переходим через улицу, — и тут же за банями река. На противоположном берегу грива мощных сосен. Ясное холодное небо. В стылой, будто раздетой воде Керженца дрожит отражение сине-зеленых хвойных вершин.
Гудят керженские сосны. Над ними бегут разорванные облака. Абрамов кутается в ватный пиджак, плотнее напяливает; на уши кубанку. Правый глаз его мутен, незрящ, с детства выеден оспой, в левом стоит напряженный, крохотный, как дробинка бекасинника, зрачок. И от реки, от неба живой глаз кажется синим.
– Антипов ковш с язами видал? – спрашивает он, бойко прицеливаясь в меня дробинкой бекасинника. – С моего образца он снял его. Я первый сделал такой. И рака тоже с моего фасона.
– Зато и ты наверно поучился у него
– Я ни у кого не учился. До всего дошел своим умом. И грамоте меня не учил никто. Только показали буквы, разобрался – и теперь грамотный. Лесником был, сам планы чертил. Покажу тебе, всё сделано по масштабу. А Ершов мне крошки не показал, и ковшей его я не смотрел. Мне у него учиться не приходится. «Чепь, скелет», – передразнивает он Антипа. – До старости дожил, а грамоты не знает, А да Е может. Цепь я не делывал, но примусь и вырежу, какую хочешь. Хвалит он себя много, а сам, как несправный портной, по меточке…
Я возражаю Абрамову, говорю о подлинной культуре народного художества, о традициях и родовых навыках, которыми силен Антип Ершов. О том, что никакая выдумка не спасет Абрамова, если захочет он сделать настоящую ендову или братину. И что дело тут вовсе не в самих цепях, а в тех творческих муках, которые заставляют Антипа не спать ночи и «умственно задумываться».
Керженец мрачно смотрит на нас глазищами своих водоворотов. Мы повертываемся спиной к Керженцу и направляемся в мастерскую токаря по дереву Терентия Михайловича Тарасова.
Несколько раз навещал меня Антип Ермилович в семеновской гостинице. Вместе мы бывали в музее и в артели. Не раз обедали в ресторане. За пельменями, за стопкой водки, которую Антип Ермилович неизменно требовал «по-московски, пятьдесят граммов либо сто», беседовали мы о самых различных предметах. Временами, особенно, когда к нашему столику подсаживался кто-либо из моих новых приятелей, Ершов начинал неудержимо хвастаться. Но бывали у него и лирические минуты, тогда он признавался, что всё, им созданное, никак не удовлетворяет его как мастера, что его главные замыслы еще впереди, и что это ему не дает покоя по ночам. Рассказывал он и о делах семейных. Жаловался на зятя. Не работящий оказался зять, приходится помогать дочери. Часто вспоминал Антип Ермилович внука своего малолетнего Ванятку и каждый раз покупал для него пряники.
К семеновскому ресторану, который радовал меня своей благоустроенностью, Ершов относился критически. Уставившись темным взглядом из-под нависших бровей на розетку с горчицей, он говорил, что в Москве такого дела не допустят, чтобы горчицу подавать открытой. Потому пыль может сесть. Неаккуратно.