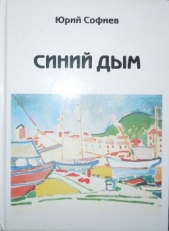За всё, за всё спасибо…
За трепетное, тайное волненье,
Не знающее тяжести годов,
За молчаливое недоуменье,
Что вспыхивает в мгле твоих зрачков,
За взгляд внимательный, чуть исподлобья,
Из-под разлёта бархатных бровей,
За то, что для меня ты вся сияешь новью,
Как светлый образ родины моей,
За то, что говоришь: «А мне не стыдно!»
И хочется бродить нам до утра.
В вечерний час так дивна, так завидна
Судьбы невероятная игра.
«Как удивительно и странно всё,
Я никогда бы не могла поверить…»
Я вижу гаснущие облака,
Я чувствую касанье ветра.
Он над землёй их гнал издалека,
Недосягаемые километры!
Душа моя, летишь, летишь и ты,
Куда, каким гонима ветром?
О, если б ринуться бы с высоты,
О, если б рассказать о не пропетом.
Обрушиться бы золотым дождём
На чёрствую, сухую землю.
И музыка — о чём она, о чём? —
Которой разрываешься и внемлешь…
…Гнусный образ —
С кровавым клинком чрез века
(Через тысячелетья!
Всегда и всегда!)
Атакующий всадник летит на коне:
— Символ смерти — не жизни —
И рубит рука…
Почему же тоска наяву и во сне?
— Мне мерещится мир
Не такой, как вчера.
Занимается утро,
Весеннее утро:
— Символ жизни, не смерти —
Доброты и добра.
1970, больница
Я проиграл жизнь.
Я воевал когда-то,
Но не зарезал никого
И не казнил.
В роду прапрадеда и деда — все солдаты.
Отец — отменно воевал
И ревностно служил.
Как билось сердце мальчика-кадета,
Переполнялось гордостью к отцу,
Когда драгуны в касках и колетах
Галопом проносились по плацу.
«Марш-марш!» и батарея номерная
Густую пыль вздымала на ветру,
И «справа по местам» прислуга боевая
За пушками скакала на смотру.
Как снова билось сердце при известье:
Россия вновь идёт войной.
И на груди отцовской белый крестик,
Темляк георгиевский на шашке золотой.
Как билось сердце после сорока,
Во Франции, когда война настала.
И тайная подпольная строка
О позывных советских сообщала.
Сквозь слёзы взрослые, тоску и радость,
В квартире ночью лампы потушив,
Прикрывши плотно ставни, слушали в тиши
«Информбюро» о славе Сталинграда.
Полвека тяжелел уставший стан,
А сердце плавилось восторгом неизменным,
Когда в кино мне даровал экран
На Красной площади парад военный…
И вот пришло теперь, совсем под старость,
Иное виденье людских путей.
Мысль о войне
Меня приводит в ярость,
Проклятье и презренье ей!
Картины разрушенья и огня,
Детей разорванных и тленных,
И матерей безумные глаза…
Двусмысленная ложь — «военная гроза»…
Друзья мои, теперь на фильм военный,
Друзья мои!
Не надо звать меня.
1970, больница
В набухшем небе тусклые повисли
Миры над городом, над мглой ложбин.
Крылатые, как эти мыши, мысли,
Душа, всколыхнутая до глубин.
Мир символов и тех соприкасаний,
В которых узнаёт себя душа,
И вот, прощённые последним целованьем,
В «не знаю» прежнее уходим не спеша.
Пусть нежность вся, и всё моё хотенье,
Что для тебя, как мёд пчела, скопил,
Подвержено спасительному тленью,
Как и мильоны жизней всех светил.
Но разве Дух, познавший полноту
Высокого и подлинного счастья,
Не встретит за земным пределом ту,
Кто здесь была и Радостью и Страстью?
1927, «Звено», Париж
Поговорим вполголоса о жизни.
Твоя рука лежит в моей руке.
Мы граждане не найденной Отчизны,
Которая нигде и вдалеке.
Да, да, конечно, надо жить и строить,
Бороться, верить, жертвовать собой.
Да, да, не только надо, но и стоит.
Но как же с грустью совладать такой!
Ведь самый верный друг тебя забудет.
Любимая предаст тебя с другим.
Из века в век — так было, есть и будет.
И что ж? — сознаемся, договорим.
И ты предашь вернейшую подругу.
И вот в какой-то день, в какой-то час,
Как тетива, натянутая туго,
Вдруг сердце обрывается у нас.
1938, «Русские записки», Париж.