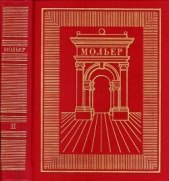Собрание сочинений в трех томах. Том 3

Собрание сочинений в трех томах. Том 3 читать книгу онлайн
В третий том собрания сочинений талантливого русского поэта, лауреата Государственной премии имени Горького Василия Федорова вошли книга стихов «Как цветы на заре» и размышления о путях развития советской литературы, высказывания и суждения о творчестве А. Пушкина, М. Лермонтова, Н. Некрасова, А. Блока, С. Есенина, анализ стихов и поэм А. Твардовского, А. Прокофьева, Н, Рыленкова, Я. Смелякова, А. Софронова, Н. Грибачева. Много внимания В. Федоров уделяет анализу поэтического мастерства С. Смирнова, Л. Татьяничевой, В. Полторацкого, Д. Кугультинова, Л. Мартынова, К. Кулиева, Ю. Друниной, О. Фокиной, В. Фирсова, В. Бокова, Л. Решетникова и других.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В то время я писал «Лирическую трилогию», которая вся шла под знаком музыки. О Бетховене, как теме, я не думал. Просто музыка, как гуманнейшая из искусств, помогала мне отчетливей увидеть трагическое состояние мира — крушение любви и счастья. Но это уже были те эмоциональные накопления, связанные с именем «моего» композитора, которые потом легли в поэму.
У моих эмоциональных накоплений не было реальной привязки. Они группировались скорее вокруг понятия «Бетховен», чем конкретной личности, наделенной вполне человеческими чертами. Те портреты, которые мне доводилось видеть, были уже результатом поэтизации образа, что никогда не вызывало во мне прилива творческой энергии. Мне нужно было представить этого гения в его первичном виде. Такая счастливая возможность однажды мне представилась.
Будучи в Карловых Барах, я забрел в местный исторический музей и увидел скульптурный портрет Бетховена, созданный его современником. Он был непохож на все его поздние бюсты с характерной гривой волос. Его лицо было плебейски простым и мужественным, как у рыбаков и дровосеков. И тогда все мои эмоции, что вертелись вокруг его имени, получили реальную меру. Что не шло к такому лицу, было сразу же отброшено, а что примерилось, еще больше скрепилось и осталось. Правда, в поэме у меня есть традиционно поэтическая черта, подчеркнутая строчкой «тряхнул своей бетховенскою гривой», но эта знакомая черта вписывается в тот облик, который мне представился в скульптурном портрете, то есть я уже мог сказать: «как дровосек, трудом разгоряченный, со лба устало смахивая пот» или:
И голову клоня перед судьбою,
Взревел, как бык, ударенный бичом.
Но и это конкретное воплощение образа пришло ко мне намного позднее, уже после того, как я почувствовал, что родился замысел. А родился он совершенно неожиданно, когда я весь был занят поэмой «Седьмое небо», ее фантастической главой «Земля и Вега». В Ленинграде меня пригласили прочитать эту главу в Союзе писателей, на что я охотно согласился. Время было горячее. В нашей поэзии шли бурные споры о путях ее развития, о роли художника в жизни, его личности и о многом другом. При обсуждении моих стихов, оспаривая мысль о беспомощности искусства, я невольно обратился к Бетховену.
Ход моей мысли был таков: когда Бетховен писал симфонии, он должен был верить во всемогущество своей музыки. Ему должно было казаться, что, услышав его музыку, человечество преобразится, избавится от пороков, от эгоизма и зла, от мелочности и суетности, но музыка его звучала, а в мире по-прежнему совершалось зло, люди по-прежнему погрязали в пороках и мелочах. Эта беспомощность не могла не потрясти Бетховена, но великий художник снова брался за труд, веря в совершенство, к которому стремился. И снова его ожидал тот же печальный результат. И все-таки всякий раз, когда звучала его новая музыка, человечество делало неприметный для себя самого шаг к прекрасному.
Так неожиданно для себя в полемическом задоре я выговорил замысел своей новой поэмы, хотя и не догадывался об этом. Вернувшись из Ленинграда, я уехал во владимирскую деревеньку Заднее Поле. Сидя ночью в тесовом закутке крытого двора и перебирая в памяти ленинградскую встречу, я вдруг почувствовал, что высказанное мной стало ядром всех моих эмоциональных накоплений, связанных с Бетховеном. В открытое окно заглядывала звездная ночь, в молодом саду, посаженном мною, свиристели цикады, которых раньше, кажется, даже не было. С этой минуты я начал думать о Бетховене стихами:
Когда ему дались и подчинились
Все звуки мира и когда дались
Все краски звуков, молодой и гордый,
Как юный бог, стоящий на горе,
Решил он силу их на зло обрушить.
Поэма напросилась сама, и так неожиданно, что у меня даже не было времени подумать, каким ее стихом писать — рифмованным или белым. До сих пор у меня не было ни одной поэмы, написанной стихами без рифм, а тут белый стих полился сам собой:
Закрылся он подобно колдуну,
Что делает из трав настой целебный,
И образ он призвал любви своей,
Отдав всю страсть, высоким заклинаньям.
На зов его, на тайное «приди»!
С улыбкою застенчивой и милой,
С глазами тихими, как вечера,
Пришла любовь, напуганная жизнью.
Этот факт лишь доказывает, что к любому материалу не нужно идти с готовой' формой, что материал, если он достаточно вызрел, продиктует ее сам. Между прочим, где-то в середине поэмы у меня появилась потребность стихи зарифмовать, что я и сделал, и критики потом отмечали, что рифмованные стихи не поломали общего строя белого стиха, а звучат в том же ритмическом и мелодическом ключе:
Запели скрипки и виолончели
И повели, перемежая речи,
По горестным извилинам души
В далекий мир исканий человечьих,
В тот светлый мир, где не бывает лжи.
Это лишний раз подтверждает мысль о пластичности формы, о ее способности подчиняться материалу и творческой задаче поэта. Форму можно нейтрализовать так, что она будет неощутима и невидима для читателя, как невидим жесткий каркас какой-нибудь сложной скульптурной лепки. Нам дела нет до того, как держится извитое и перевитое змеиное тело «Лаокоона».
И еще один психологический момент. В два дня, а вернее, в две ночи, я написал примерно половину поэмы. Как раз в то время мне нужно было уезжать в Крым. Обыкновенно я трудно привыкаю к новому месту, к стенам, к окнам, к столу, а на этот раз, приехав в Крым, в тот же вечер, будто и не прерываясь, вернулся к поэме и| через несколько дней ее закончил. Что же случилось? А то, что в Крыму меня встретили такие же цикады, что свиристели в нашем деревенском саду, когда я начинал поэму. Их уже знакомый голос оказался сильней шума моря, сильней всех новых впечатлений, он сразу же ввел меня в привычную рабочую обстановку.
Закончив поэму, я прочел ее Николаю Рыленкову. Он сделал мне несколько частных замечаний, а потом спросил, читал ли я перед работой Ромена Роллана.
— Конечно, нет! — ответил я.
— Почему «конечно»?!
И я должен был признаться, что перед работой никогда этого не делаю. Во-первых, другой писатель может навязать свой взгляд, нагрузить лишними подробностями, ненужными для твоего замысла.; во-вторых, прочитав что-нибудь, я, прежде чем сесть за работу, должен был бы все позабыть, что вычитал, а на это нужно много времени, за которое мог бы улетучиться и сам замысел. Но теперь, когда поэма была уже написана, было даже интересно заглянуть в книги Ромена Роллана, что я и сделал, после чего, однако, никаких поправок не внес, а лишь утвердился в том, что сделал то, что хотел. Плохо ли, хорошо ли, но сделал.
Так ошибка, совершенная в юности, привела меня к поэме. Но вернусь еще раз к накоплению эмоций. Когда я говорил, что, прочитав о Бетховене или прослушав его музыку, должен все забыть, я не имел в виду, что мне нужна была ничем не обозначенная эмоция. Наоборот, эмоция до поры до времени должна быть на какой-то привязи. Например, в чувстве характера такой привязью стал скульптурный портрет Бетховена, увиденный мной в Карловых Варах, а сам портрет держался в моей памяти на характерной складке его крутого лба, которая и помогла мне найти рефрен, очень важный для всей конструкции вещи:
И лоб его, досель неомраченный,
Тогда и рассекла кривая складка,
Что перешла потом на белый камень
И сохранилась в камне
На века.
РАПОРТ НА КРЫЛЕ
До войны- в новосибирском аэроклубе для учлетов был заведен такой порядок: в начальной стадии самостоятельных полетов с командиром' на борту после возвращения на землю учлет выходил на крыло и отдавал рапорт, в котором сам оценивал все стадии своего полета. Например, если он взлетел хорошо, то и должен был, не стыдясь, сказать, что взлетел хорошо; если на первом развороте недоразвернулся и нарушил «коробочку», то есть квадратный маршрут над аэродромом, то и об этом должен был доложить. Причём не надо было принимать в расчет те реплики, которые командир, сидевший в самолете в качестве наблюдателя и пассажира, отпускал во время полета часто от скуки.