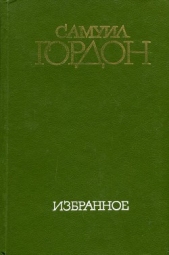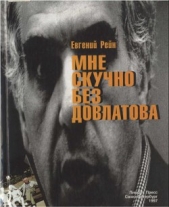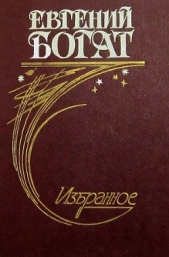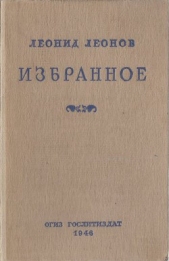В начале сентября на волжской воле
так ветрено. Гудит осина в поле
и лесопилка в Белом Городке.
Воняет креозотом, формалином,
по радио: «По взгорьям и долинам…»
И мы спускаемся к реке.
Погрузим рюкзаки в устойчивую лодку,
уложим поплотней крупу, тушенку, водку.
Мотор забарахлит,
потом свое возьмет.
Плывите мимо нас, тверские деревеньки,
нам некуда спешить. Теперь уж помаленьку —
обратный ход.
Он кутается в новую штормовку,
и мне не проявить смекалку и сноровку —
только пассажир.
Закурим, поглядим на мимолетный берег:
«Читай-ка „Валерик“, как славно, что Валерик
нам денег одолжил!»
Он говорит, что «жизнь постиг,
судьбе, как турок иль татарин» [10],
равно за все он благодарен…
«Да что там, Женя, я — старик.
Но как бы вам сказать? Ведь старость
совсем не то, что мните вы…» —
«Да, все признанья таковы.
А как понять?» Теперь осталось
до дома ничего совсем.
Все это было между тем,
в те времена, когда он с нами
мог пошутить, погоревать.
Над среднерусскими лесами
начало осени. Опять
трава пожухла. Вон и трактор
чего-то бьется на меже,
доказывая свой характер.
А небо в лучшем неглиже —
такая облачная тонкость.
И вот последняя подробность:
обедали, он сел к столу
и мне сказал: «А ту строфу
из Лермонтова я запомнил,
поверишь ли, в пятнадцать лет
и этот повторял завет
везде — в издательствах, на полустанках,
в окопах и госпиталях,
в удачах, а равно в отставках,
на пересылках, в лагерях.
И вот теперь все то же, то же
я говорю, дай повторю…
Теперь и свериться негоже
по старому календарю.
Ты думаешь, что старость это?..
А старость просто ближе к тем.
Пойдем дойдем до сельсовета
и попрощаемся затем».
А через час внезапный холод,
сиверко, тьма и мокрота.
Ты думаешь, что жив, что молод,
что где-то люди, города,
и кровию артериальной
кипит колеблющийся вал…
О, если б на платформе дальней
опять я одиноко стал
и в ожидании отъезда
подумал: «Больше никогда…»
О, как свободно, страшно, тесно
небесная блестит слюда.
Ни слова больше. Снисхожденьем
и мертвых можно оттолкнуть.
«И беспробудным сном заснуть
С мечтой о близком пробужденьи?»