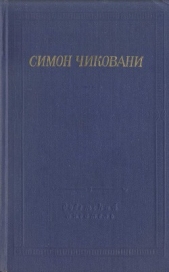Что было раз — тому не повториться.
Была Тбилиси ночь. И был лишь череп твой.
Я с трепетом глядел в твои глазницы,—
Лежала в них земля, и сумрак, и покой.
Пещеры глаз темнели величаво,
Как склепы некие над сном подземных вод.
То был тайник скорбей — могучий свод,
Грот мудрых снов прославленного пшава.
И я глядел сквозь грот и в тучах видел дали,
Как бы скрещения тропинок иль мечей
Иль ветви дуба там, в твоем Чаргали,
Где в плиты скал вчеканен был ручей
Извилистым узором на кинжале.
То тени снов, сокрытых в лабиринте —
В мозгу седого рыцаря-певца.
А ночь ползла, как барс, по кручам
на Мтацминде,
Чтоб глянуть на черты нетленного лица,
И уцелевший лик нам поразил сердца.
И страшно было нам его страшиться взора.
Он с нами был — суровый пшавский муж,
Он смел с пути осколки мелких душ
И мужество возвел крутой тропою в гору.
Важа, Акакий, Александр, Илья…
Осыпана огнем, внизу гремит земля,
Стихов созвездье встало над Тбилиси,
И кипарисы над камнями тут,
Как бы мечи трехгранные, взвилися,—
И горы ими отдают салют.
1935
Перевод Н. Ушакова
Измученный вонзившейся стрелою,
Олень с трудом достиг мохнатых круч,
Где из глубин точился дымный ключ,
Клокочущий целебною водою.
Подставил рану под струю тепла,
И прежняя стремительная сила
Вновь по усталым мышцам потекла
И слабнущее сердце укрепила.
Олень поднялся. Прежний трубный звук
Унесся к синим горным гребням в дали,
И, видя это чудо, Горгасали
Послушно опустил свой прыткий лук.
Но, удали своей ища исхода,
Он городу велел немедля встать,
Где горы дарят воду-благодать,
Горячую, как нрав его народа.
Прошли века, но до тех пор, пока
Первооснова гор не охладела,
Ключи в духмяных логах Сакартвело
Живут и будут жить еще века.
Но никогда еще, Тбилиси древний,
Обильные целебные ручьи
Такою силой, щедрой и напевной,
Не вспаивали мускулы твои.
И, словно герб твой, вижу я воочью
Оленя, что взметнулся с вольных гор
В грядущих дней распахнутый простор,
Навстречу солнцу, жизни средоточью.
1958
Перевод Ал. Ал. Щербакова
39–41. УЗБЕКИСТАНСКИЕ СТИХИ
Крик бирюзовых птиц, шакалов тонкий плач,
Арыков плещущих недолгая прохлада,
Тяжелой башнею чернеет карагач,
Дарит благая тень прохожему отраду.
С деревьев тутовых слетают вниз плоды,
Струясь, подобно сладкому дождю, бесшумно.
Вот тут бы путникам усталым у воды
Присесть на коврике и отдохнуть бездумно.
И гостя пришлого встречает добрый люд,
Узбек произнесет «салям» и усмехнется.
Растают ягоды на теплой меди блюд,
Из ковшика вода студеная прольется.
Степенно кланяясь, привстанет аксакал,
И к сердцу верному прижмет он руку, стоя,
И горьковатого зеленого настоя
Предложит он испить из маленьких пиал.
Как живы и ловки, как стройны хлопкоробы,
Как ладно скроены, — они такие все.
Таков и этот дед, мудрец высоколобый,
Садовник наш в земной, изысканной красе.
Почтителен и строг во вдумчивых расспросах —
О тружениках нив, идущих впереди,
О волжских яблоках, о киевских колхозах,
Он завершает речь строфою Саади:
«Будь волос шелковинкой или еще слабей,—
Когда сплетен с другими, он крепче всех цепей».
И он волнуется. И речь, исполнясь лада,
В двустишья вкована, им отдана во власть,
Она колышется, звенит, как лоно сада,
Когда плодам его пришла пора упасть.
Мы вслушиваемся, как в слове дышит страсть,
И в слове том — плода созревшего услада.
Он говорит, и мы стремимся всё сберечь,
Весь медью кованный раскат речитатива,—
В колхозный сад вошла спокойно, горделиво
Титана Фирдуси взволнованная речь.
Стих Тусского певца чеканкою украшен,
Раздумий Саади живой и мудрый лад,
Мотив Гафиза строен и изящен,—
Стихи, как добрый гость, вошли в колхозный сад.
Как вздох, как теплота, как трепетанье тела,
Как мысль, они росли в могучем старике.
И почва древняя цветами шелестела
И, как карнай, звучала вдалеке.
Сквозь речь колхозника соединяясь с краем,
На сотнях языков рождалась песня вновь,
Где строфам Пушкина, Гафизовым рубайям,
Шевченковым словам достойно мы слагаем
Навеки данные нам братство и любовь.