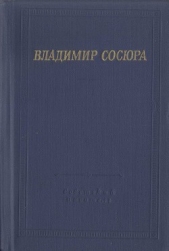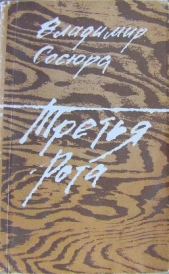Снова ты? Любимая, во сне ли
ты со мной, как много лет назад?
Золотые буквы на панели,—
это пишет о любви закат…
Мы идем, и грудь мою стеснило,
словно песней, шумною толпой…
Будто веет лебедь белокрылый
над тобой, над нежною тобой.
Нет, ты снишься лишь… Я только знаю
одиночество и боль тоски.
Тихий вечер, скорбно догорая,
заливает кровью ветряки.
За плетнями цокают копыта,
замирают глухо на мосту.
Сад шумит… Окно мое раскрыто…
Пахнут медом яблони в цвету.
Где-то в далях красное сверканье,
будто огоньки на тихом льду.
Сжав лицо холодными руками,
я гляжу, прислушиваясь, жду…
Показалось мне, что закачались
предо мною белых два крыла,
точно ты походкою печали
в белом платье вдалеке прошла.
Небо сеет звезды синим ситом,
дум о прошлом чуть журчит волна.
Сад шумит… Окно мое раскрыто,
и глядится в комнату луна…
1928
Не буди ты, мой тополь, былого
в полумгле предрассветной земли.
Скоро в поле весеннее снова
позовут на простор журавли.
С чутким сердцем, тревожным и нежным,
к белым хаткам приеду, приду,
и от яблонь, цветущих, как прежде,
милым прошлым повеет в саду.
Я сердечные вспомню пожары,
как ходил на свидания к ней…
Под луною заплачет гитара
о любви невозвратной моей.
А в саду — георгины, горошек
и мечтаний несбыточных рой…
Был когда-то я стройный, хороший,
а теперь не такой, не такой.
Не воротятся юности грозы…
Только стены да камень кругом…
На вокзале кричат паровозы,
и трамваи звенят за окном.
Всё ищу я, смотрю, призываю…
Но былого не видно вдали.
Ой вы, яблони, яблони мая,
как хочу я, чтоб вы зацвели!..
1928
Кукуруза шумит и желтеет,
к теплым странам летят журавли.
И курган одинокий синеет
в тьме осенней дали.
Журавлиные клинья над нами,
шумы смерти кругом…
И размеренно машет крылами
одинокий ветряк за селом.
Сквозь печаль силуэтов и линий,
где гиганты бурлят — города,
по вечерней и тихой долине
золотые бегут поезда.
Синь и синь над полями без края,
сердце вянет под осени зов.
Ночью мимо села пролетают
золотые огни поездов.
К поездам простираю ладони,
но цокочет дороги змея…
Может быть, в промелькнувшем вагоне
пролетает и доля моя.
Плачет ветер за окнами тонко…
Променял я столицу давно
на проклятый огонь самогонки
и на узкое в хате окно.
И куда мне идти, я не знаю,
в город я не вернусь никогда;
там контрасты меня раздирают,
здесь убогая душит среда.
Гляну в зеркало, кличу несмело,
чтобы юность вернулась назад.
Но уже и лицо подурнело,
и живой затуманился взгляд.
Но гудят телеграфные струны,
хохот в них и рыданье тревог…
Был когда-то я смелым и юным,
но теперь постарел, изнемог.
Там по городу льются колонны,
поднимается песня в зенит,
и украшенный стягом червонным
Совнарком нерушимо стоит…
Все готовы к боям непреклонно.
И мне кажется в светлом чаду,
будто я в этом громе колонном
восхищенно и гордо иду.
Не могу, не могу, не могу я, —
поскорее от грусти села.
Слишком красную розу люблю я,
что навеки в груди расцвела.
Как я хлопнул простуженной дверью,
только видели звезды одни.
Предо мною простор, и теперь мне
станционные светят огни.
Умирает печальное лето,
тишина и покорности миг…
Паровоз прокричал мне приветно,
я спешу на призывный тот крик.
1928